
Константин Кедров, Валерия Нарбикова, Елена Кацюба
М., ДООС, Издательство Р.Элинина, 2005
Дизайн обложки: Виктор Корольков
Дизайн книги: ЯKrasnovsky
Презентация книги состоялась в TV
Галерее Посмотреть
видео
---------------------------------------------------------------------------------------------
Жан де Лафонтен
«
Цикада и муравьиха
— Я пела днем и ночью и не хотела спать.
— Ты пела? Очень мило. Теперь учись плясать.
«День и ночь, не обессудьте,
Песни пела всем, кто рядом».
«Если так, я очень рада!
Вот теперь и потанцуйте!»
И.А.Крылов
Стрекоза и муравей
"Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!"
Константин
Кедров
Земля леТЕЛА
по законам ТЕЛА
а стрекоза леТЕЛА
как хоТЕЛА
* * *
Квитанция, которую я получил
полыхает закатом
там солнечная печать
надо доверять только вечности по
субботам
все остальное время лучше не доверять
Неостановленная кровь обратно не
принимается
Окна настежь и все напрасно
две дани времен две отгадки
одна направо одна налево
Д О О С
Добровольное Общество Охраны Стрекоз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виллем Г.Вестстейн
Профессор славистики
Нидерланды
Песня становится делом. Новая поэзия в Москве
Еще в 1984 году, метаметафористы разбились на
две подгруппы, вернее сказать, три поэта сознательно отделились от группы,
получившей такое название. С тех пор они основали собственную поэтическую
ячейку. Лидером ее был и до сих пор остается темпераментный и чрезвычайно
активный Константин Кедров, рядом с которым еще два поэта — Елена Кацюба и
Людмила Ходынская.
Группа, которая сложилась под его влиянием,
получила название ДООС и расшифровывается как "Добровольное Общество
Охраны Стрекоз".
Для Кедрова и его группы важно не только то,
что собственно означает ДООС в полной форме и в сокращении, но и определенные
ассоциации, которые рождает само звукосочетание. В одной из своих программных
статей-деклараций о ДООСе Кедров указывает на созвучие между названием ДООС и
китайским словом Дао. Таким образом возникает соотношение с "эстетическим
учением даосийских монахов, которые презирали немощь человеческого земного ума,
неспособного прозреть божественный план Создателя вселенной". Это
высказывание содержит различные аспекты, которые имеют непосредственную связь
с концепцией ДООСа. Одним из таких аспектов является понимание мира на более
высоком, нежели рациональный, уровне. Язык, слова, по крайней мере слова в
поэзии выявляют подчас скрытые связи между предметами. Поэтому благодаря поэзии
можно гораздо глубже понять мир, нежели чем путем его логического постижения.
Звучание слова играет при этом решающую роль.
"Значение стихотворения для нас неразрывно связано со звуком, на самом
деле восемьдесят процентов содержания несет в себе звук". Значение,
придаваемое звучанию слова, объясняет и увлечение ДООСа анаграммой. Когда слово
произносится, можно, как утверждают они, сразу на слух различить в нем другое,
скрытое значение. Так слово vrede (мир) заключает в себе rede
(речь, разум). При этом речь идет не о бытовой реальности, а о реальности
космоса. Повседневность банальна и не стоит изучения и описания. ДООС
предпочитает высказываться на более высоком уровне, который позволяет
создаваемым языком значениям и ассоциациям вызвать к жизни космические,
аналогичные Дзен ощущения. Космическое находит адекватное словесное
выражение, когда говорит на своем языке, некоем "звездном эсперанто"
Члены группы пишут не для широкой публики, их
тексты, по выражению Кедрова, являются "комментарием к великому молчанию
космоса, либо комментарием к отсутствующему тексту". Этот комментарий
заслуживает, чтобы к нему прислушаться.
Сокращенный перевод с
голландского Светланы Князьковой
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Константин
Кедров
Иероглиф над
прудом
Я не могу читать, вернее, перечитывать прозу Леры
спокойно и отстраненно, потому что в этих прусто-джойсовско-набоковских
речитативах весь наш стрекозино-доосовский, хотел сказать – быт, но быта не
было. Была вечная жизнь, и она осталась в Лерином языке, повторяющем прозрачную
кальку стрекозиных крыльев в полете.
Мы бродили по Царицынским прудам, именно по прудам,
а не по мостикам и аллеям. Мы жили в Царицынском дворце без крыши, напоминающем
Мюр и Мерилиз, он же ЦУМ, по которому мы тоже бродили. А зачем бродили, если
денег все равно не было, а те, что были,
периодически воплощались в портвейн «Агдам» или «777» (Три семерки). Были,
конечно, и другие вина, но у ноги Алексея Толстого напротив церкви, где
зачем-то венчался Пушкин, а потом был склад химреактивов, мы пили только «Три
семерки» или «Агдам». Открытие бутылки Агдама с помощью чугунной обуви
советского графа было делом чести. Не разбить, а именно открыть. Граф на все
это смотрел с чугунным прищуром. Он и сам был не прочь отхлебнуть «Агдама».
ДООС тогда еще никак не назывался, а потом стал называться «семья».
Однажды я повел Леру в Коломенский храм. Лера была
на службе впервые и очень удивлялась. «Ну, пошли», – сказала она через пять
минут. Но я сообщил, что еще через пять минут откроют Царские Врата, а потом
пообещал что-то еще, и так мы продержались до конца Всенощной. Мне очень
хотелось, чтобы Лера увидела всю Всенощную, и Лера увидела и на всю жизнь
запомнила, что очень горели ноги.
Потом Лера приносила свою прозу, и там все, о чем мы
говорили, было зачем-то расписано на голоса персонажей. Первое время я даже
обижался: почему это какой-то Додостоевский и Тоестьлстой говорят моим голосом
и зачем моя комната на Артековской улице вдруг перенесена в Царицынский дворец.
А потом я уже и сам забыл, где тут я, где не я, и кто что говорил и где это
было. И только тогда записи Леры превратились для меня в прозу. Ах, Лера, Лера,
зачем ты отдала мои слова другим? Да ладно бы только слова, а то ведь еще и
чувства, и мысли. И лицо, и одежду, и пенсне. Нет, пенсне и очков у меня не
было. И монокля, и лорнета, и телескопа. Но однажды мы были с Лерой в
«алюминиевой жопе планетария», и я показал Лере Вегу. Там было много других
звезд, но Лере почему-то понадобилась именно Вега. Лера была в Литинституте на
моих лекциях по теории метакода. Я придумал слово «метакод» и обозначил этим
словом тайный код звездного неба. А потом я придумал метаметафору и ДООС
(Добровольное общество охраны стрекоз).
В ДООСе было три стрекозы: Галя – Лера – Лена. Лера
– Галя пошла к мавзолею кататься с горки и вывихнула ногу. Я до сих пор не
пойму, где там горка. А потом Галя поехала на этюды в Торжок и повредила
позвоночник. Потом она танцевала в гипсовом корсете в своей доосской квартире
на Грановского. Квартира была громадная, из пяти комнат, с камином. В камине мы
жгли пластмассовые самолетики и еще страницу за страницей поэмы Симонова про
любовь, где у них ничего не получилось. И еще роскошные стулья, которые
остались от выселенных соседей. Соседи уехали в какое-то мифическое Алешкино, а
стулья остались на Галиных картинах. И в моей поэме «Венский стул». Боже, чего
мы только не жгли в камине. А Лера сочинила устный роман про Евгения Цемент и
Татьяну Стрежень – смесь романа Гладкова с чем-то еще. Потом взорвался
Чернобыль, и выселение прекратилось.
Лера готовилась к госэкзамену и читала роман Федора
Абрамова «Дом». Когда ей стало совсем тяжело, она позвонила мне и говорит: «Я
читаю роман этого, как его, «Дом». Ой, я вся в крови. Ой, это я ухо до крови
ногтем расковыряла. Ой, весь «Дом» в крови».
На экзамен Лера – Галя идут вместе. А Лена
злорадствует, потому что ей уже ничего никогда сдавать не придется.
– Каких современных советских писателей вы знаете? –
спросил профессор.
Лера задумалась.
Профессор решил помочь:
– На…
– Набоков! – обрадовалась Лера.
– Нагибин. Набокова у нас в программе нет. Ну, хоть
кого-нибудь вы читали?
– Бе-е…
– Белова?
– Нет, Белого.
– Белый не советский писатель.
– А какой?
– Русский.
– А-а-а…
Галя сдавала научный коммунизм.
– Какой был последний съезд КПСС?
–
Два-а-а-адцать… – прислушивалась к подсказке Галя
– 22-й? 23-й? 24-й?
– Двадцать пятый.
– А, может, двадцать шестой?
– Нет-нет-нет, двадцать пятый, – испугалась Галя.
Преподаватель вздохнул – последним был именно
двадцать шестой – и обреченно сказал:
– Удовлетворительно. Идите. Общество вы
удовлетворяете.
– В каком смысле?
– Во всех.
Лера пишет свою прозу карандашом. «Равновесие звезд»
я читал в карандашном варианте. Все говорили, что это никогда не будет
напечатано, а я сказал: «Напечатают». Однажды в буфете ЦДЛ, где я бывал крайне
редко, сидели мы с Андреем Мунблитом,
работавшем в журнале «Юность».
– В поэзии есть твоя метаметафора, а в прозе ничего
интересного. Мы готовы напечатать самую смелую прозу, но ничего нет.
– Есть!
– Кто?
– Валерия Нарбикова.
– Как ты сказал?
– Нарбикова.
– Так пусть несет, я тебе клянусь, напечатаем.
Звоню Лере. Рассказываю о пьяном разговоре.
– Так ведь все равно не напечатают.
– А ты неси. У меня рука легче пуха. Парщиков –
Еременко – Жданов пошли с моей подачи. И ты пойдешь.
Пошла! Через
два года напечатали. Правда, все время норовили выбросить «алюминиевую жопу
планетария».
На защите Лериного диплома по «Симфониям» Андрея
Белого я был оппонентом. Ну и весело было. Из диплома никто не понял ни слова,
а когда Лера стала объяснять, стало еще смешнее:
– Белый хотел сблизить литературу с музыкой Скрябина,
и он все построил по его «Поэме экстаза», а Скрябин умер от фурункула на губе,
когда создавал свою цветомузыкальную мистерию. А Белый умер уже потом, после
солнечного удара в Крыму у Волошина. Он без шляпы ходил на солнце и даже
платочек не завязал. А если бы он шляпу надел, то был бы уже не Белый.
Председатель:
– Спасибо! Теперь вы, Константин Александрович.
Что я говорил, уже не помню, но диплом Лера
защитила. А потом пришла перестройка, и Леру стали вовсю печатать и на всех
языка. У нас, во Франции, в Германии. И все пытались из нее сделать какую-то
феминистку. Больше всего Леру не любили тетки-реалистки. Они раньше любили все
этих На-а…, Бе-е.. , Три…, Абра…, Дюрсо,
Дерсу Узала. А Набо…, Джо…, Пру…им поперек седалища. Больше всего
реалистки боялись, что Лера уведет их никчемных мужей. А у Леры и своих мужей
выше горла. «Три мужа, три любовника и еще кое-кто», – сказал она одному
известному гитаристу-барду. У барда у самого же любовниц выше горла, а он стал
Леру морали учить и даже спел ей песенку «Ваше превосходительство Девушка». А
Лера в ответ спела любимую песню про абиссинца на слова Гумилева. Абиссинец
этот услышал, что в Каире занзибарские девушки пляшут и любовь продают за
деньги. А ему уже давно надоели грязные поденщицы Кафра, жирные злые сомалийки.
Я все время хочу спросить у Леры, чем там у этого абиссинца закончилось, потому
что Лере ни разу не удалось эту песню до
конца. Все сразу начинали шикать, топать, шептать, подпевать, перебивать и
спорить о Гумилеве – плохой он поэт или хороший.
А для Леры Гумилев там, Ходасевич, Георгий Иванов,
Кузмин все равно как члены семьи или любимые куклы. Она сразу начинала
обижаться и садиться обидчикам на колени. А тут какой-нибудь муж тотчас начинал
ревновать и толкать обидчика башкой в японскую ширму с вышитым золотым
драконом. Обидчик пробил головой ширму, и из-под шелка посыпались пожелтевшие
газеты с иероглифами. А потому в час ночи мы все пошли от Леры с Нахимовского
проспекта к нам с Леной на Артековскую – пить чай.
– Лера, ты поешь на хроматизмах, – сказал художник
Юра Косаговский, который еще играл на гитаре и сочинял песни.
– На хромосомах? – спросила Лера.
Она взяла гитару:
– Это у вас какая гитара, шестиструнная или
семиструнная? Вообще-то, мне все равно. И запела:
– Раз услышал бедный абиссинец…
В начале 80-х я купил только что появившийся плеер с
наушниками. Лера надела наушники и, слушая музыку, стала разговаривать
неестественно громким голосом.
– У тебя блядский голос, – сказал один Лерин муж.
Лера обиделась и ушла в окно. Через некоторое время
послышался жалобный крик: «Снимите меня!»
Окно выходило на балкон, общий для двух квартир, и Лера забралась на
разделяющую их перегородку. Она сидела на жердочке на высоте одиннадцатого
этажа. Хозяин квартиры осторожно спустил ее на пол.
Для Леры и маркиз де Сад – все равно как для
советского человека Горький или Шолохов. Но больше всех живых и мертвых Лера
любит Кузмина. И не всего Кузмина, а «Форель разбивает лед». Потому что она –
форель, безуспешно разбивающая хвостом и плавниками российский лед. Лера нежно
и трогательно любит людей, играющих на гитарах. Она их целует, гладит, плачет
вместе с ними и просит играть еще. И чем хуже они поют и играют, чем Лера
нежнее.
– Почему ты
хвалишь эти гнусные стишки? – кричу я в ярости.
– Потому что все мы такие бедненькие. Однажды мы всё
узнаем. Главную тайну. И умрем.
– Почему же непременно умрем? Просто узнаем.
– Нет! Узнаем и умрем.
Иногда я думаю, что Лера уже несколько раз умерла,
узнав последнюю тайну. Но как только ей попадается сломанный огрызок карандаша
и пачка бумаги, она начинает на этой бумаге этим огрызком что-то писать. И
когда я читаю то, что она пишет, мне становится ясно, что Лера не умрет
никогда.
«Нет, весь я не умру», – сказал осторожный Пушкин,
которого Лера любит, а я нет. А если не весь, то и не умер. А если не умер, то
и не воскрес. Лера в тексте не воскресает, она в нем живет. Вернее, текст в ней
живет. Есть там особые клетки, какие-то ДНК, а в Лере есть текст. Чтобы его
прочесть и записать, одной жизни мало. Поэтому Лере придется сначала жить очень
долго, а потом вечно. Главное, чтобы и здесь, и там хватило карандашей и
бумаги.
– А проза, это у нас что? А Бог, это у нас что? А
поэзия, это у нас что? А красота, это у нас что?
Это любимые фразы Леры и опять же: «Какие же мы
все бедненькие!»
Однажды мы едем в метро, а какой-то хипарь вытащил
икону и покрывал ее всю поцелуями. А потом, часто крестясь, запел Окуджаву.
– Этого не может быть! – воскликнула Лера.
– Все может быть Христа ради, – ответил хипарь.
Это случилось в разгар борьбы с верующими при
Андропове.
Когда меня отстранили от преподавания в
Литинституте, Лера задумчиво сказала:
– Да, уж если у нас кого не захотят, так уж не
захотят!
Когда Лера увлеклась живописью, мы бродили по
московским дворам. С воплем «Рамочка!» – Лера срывала всякие правительственные
послания и портреты депутатов в рамках под стеклом. Однажды, увидев на помойке
стул, она с боевым кличем оторвала у него спинку и ножки, выбила сидение и с
гордостью показала оставшийся в ее руках круг: «Круглая рамочка!»
– Вот как надо редактировать реальность, – сказал я.
– Реальность,
это у нас что? – спросила Лера.
Она пишет свои полотна кисточкой, маленькой
спринцовочкой, листьями клена и всем, что подвернется под руку. Потому что все
– рамочка, и все – картина.
– А картина, это у нас что?
В начале 80-х на углу у «Националя» стояли две
проститутки. Одна вся в черном, другая вся в белом. Я даже стих тогда написал:
«Между черной и белой проституткой…» Дальше не помню. Рассказал об этом Лере.
«А я не верю! Врешь ты все», – сказала она. Пошли к «Националю». Увидели двух
проституток. Одна вся в черном, другая вся в белом. И тут же из перехода
выскакивает навстречу нам поддатая герла в роскошном белом мужском плаще и
кричит: «Гляди, какой на мне прикид, ебен’ть!»
– Это что, отчество такое – Ебеныч? Ты с ней знаком?
– удивилась Лера.
Долго мы смеялись над Лерой, а потом стрекоза Галя,
побывав с нами в Доме творчества в Ялте и насмотревшись на писателей, соорудила
из мешков и тряпок человека, похожего на Горбачева. Прицепила к нему круглые
глазки, выковырянные из куклы, одела в военный мундир и усадила в растрепанное
кресло у камина. Его-то и стали называть Ебеныч. Когда в 88-ом году я устраивал
в концертном зале Олимпийской деревни авангардное действо «Разомкнутый
квадрат», Ебеныч сидел в кресле в фойе,
вооруженный старым охотничьи ружьем – охранял книгу отзывов. Таращил
стеклянные глаза на публику, вызывая смех или негодование. Режиссер видеостудии
«Паритет» Лев Чернявский заснял всю вакханалию на пленку. Наверное, эта запись
и сейчас где-то лежит. Спустя много лет Галя переехала в дом на Большой
Ордынке, где Ахматова жила на квартире у сатирика Ардова. По этому случаю во
дворе поставили поэтессе памятник. В гости к Гале мы ходим через Красную
площадь. А Ебеныч так и сгинул в вихре 90-х, ебен’ть.
Лера приходит теперь ко мне не на Артековскую, а в
Большой Гнездниковский переулок, в дом Нирензее, иногда одна, иногда с
Яркевичем. А потом мы куда-то с ними идем, и в какой-то момент Лера с Яркевичем
исчезают, а мы идем дальше. Однажды на презентации моей книги «Или» в ПЕН-клубе
Лера читала вслух мою поэму «Заинька и Настасья». Лучше всех читала. Она ее еще
тогда полюбила, в 83-ем, когда я написал этот текст в Малеевке. А до этого ей
нравился «Венский стул». Лера читает тексты, как мемуары, и узнает себя. А я
узнаю себя в ее текстах. Вернее, не только себя, а всю нашу семью – ДООС. Лера,
Галя, Лена и я. Я и Лера, Лена, Галя. И еще много всяких замечательных людей,
которых Лера, если хочет, то называет, а не хочет – не называет. Многие фразы в
ее текстах начинаю говорить я, а заканчивает Галя. Или начинает говорить Галя,
а заканчивает Ванечка. Или начинает Ванечка, а заканчиваю я или Лена. Или начинает Лера или Галя, а заканчивает
Андрей или Дима. Или начинает Андрей, а заканчивает Зоя. Или начинает Зоя, а
заканчивает Булат. Или начинает Булат, а продолжает Белла. Или начинает Андрей,
а заканчивает другой Андрей. Или начинает другой Андрей, а заканчивает Андрей.
Или начинает Саша, а заканчивает Саша. Или начинает Генрих, а заканчивает
Сапгир. Или начинает Сапгир, а продолжает Холин. Или начинает Волга, а
продолжает Рейн.
Когда Лера родила Леру, мы еще не знали, что она
будет Лера. Лена мрачно сказала: «Назовут какой-нибудь Кунигундой». Лера хотела
назвать дочку Адрианой или Александриной, а Ванечка предложил – Иванна. Нет? Тогда Лера. Как
Лера? Очень просто: Лера большая и Лера маленькая, или Мяука. Теперь Лера
маленькая стала большой, а Лера большая еще не стала маленькой, и все
окончательно перепуталось.
Лера несколько лет жила в Германии, а когда
вернулась, то стала говорить с акцентом. Не немецким, а детским: «Пойём поуяем». Теперь акцент пропал и
появляется только после хорошего застолья. Леа – хоёшая девошка, генияйный
пиатель. Пьёза Леы хоёшая, а вы все дуяки! И Соёкин ваш дуяк, говно кухает, а
Леа говно не кухает. Леа Найбикова хуёшая девошка. И Соёкин хуёший, и Еофеев
хуёший. И все мы хуёшие и такие бедненькие, но хуёшие.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уже
тяжелеют легкие,
леденеют
ладони –
видишь,
в
прозрачных погонах
резидент
небесной разведки
на
квадраты обстрела
делит
лазурь стрекоза
libellula
bella…
Елена
Кацюба «Десант»
ВАЛЕРИЯ
НАРБИКОВА
СКВОЗЬ
Роман
Большой квадратный стол, пестрый, яркий,
как детский калейдоскоп. Меняющиеся блестки – это блюда и гости.
Лера встала, перекинула сумку черз плечо
и пошла за черным Квадратом к двери. Он похитил ее просто: за порогом их не
ждал, не кипел конь, они закрыли одну дверь и открыли другую. Разделась и
позвала его к себе. У нее летняя, у-у-у, звукодудочки шея… за окном фонари –
ямы, уводящие к желудку, бросаешь медь – звенит стекло, фонари, склоняющие
кобровые гоовки и лижущие пятна собственного света, о, это не лампочки, хрупкие
и раскачивающиеся от ветра. Оду – лампочкам! Села к нему на колени, взбила
бумажные редкие волосы…
Дальше
можно прочитать, купив книгу в книжной лавке Литинститута (Тверской, д.25, во
дворе) и в магазине «Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., д.12 / 27).

Графика Галины Мальцевой
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.Нарбикова
Стихи
поэта КАК
Константин Александрович Кедров –
КАК – для меня так и остаётся «как?». Я
ему задавала совершенно нешуточные детские вопросы «как?», на которые он
никогда мне не отвечал: «Да как сама
знаешь», – то есть он не отмахивался, как от дурацких вопросов.
Он сказал: «Ты веришь, что можно
вывернуться?» – «Верю. А как?» Вот если встать как звезда: голова наверху, руки
распрямить, ноги расставить, всё, что внешнее окажется внутри, а всё, что
внутри – снаружи. Да нет ничего проще. Но это не упражнение. Это то, что нельзя
придумать. Это то, что один увидел, а другой в это поверил. Всё так просто.
«Сколько бы ни было лет вселенной у человека времени больше».
Я спросила у КАК, «можешь
объяснить мне, только подоходчивей, теорию относительности, потому что у
Эйнштейна я как-то слабо понимаю». – «А ты сначала, расскажи, как слабо». –
«Ну, я, например, понимаю, что вот если представить автобус в воздухе с двумя
водителями: впереди и сзади, автобус одновременно едет в разные стороны и не
разрывается». – «А в каком времени?» – «А вообще». И защищалась.
То есть нападала.
«Так
думал я,
сравнивая
правую и левую сторону белой девочки
подсыхающей
вокруг неба,
и
решил, что справа всегда немножко больше,
чем
слева
и
вспомнил жалобы,
что
правому всегда достаётся больше
даже
от собственного тела приходится иногда таиться».
И, собственно, подумала: стихи
могут быть про всё, но не всё будет стихами. А, может, это не я первая
подумала. Но зато я первая подумала, что это я первая подумала. Меня даже
иногда удивляло, что КАК ничем нельзя удивить – про всё он где-то или видел,
или слышал, или читал, или это ему снилось. В общем, это человек-странник, убегающий
от себя так далеко, что, приближаясь к самому себе, он становится настолько
огромен, что становится невозможно себя охватить, и он удаляется опять на
невероятное расстояние, чтобы взглянуть на себя оттуда, чтобы лучше себя
увидеть, это человек-волна. И если путь физически может быть человеком, то это
КАК.
«я
в тесном не-сне живу
постоянно
воспламеняем
люблю
Два
волкодава Заинька и Настасья
посуху
плывут из грозы».
Про что это? А это про то, что я
в тесном не-сне живу постоянно воспламеняем люблю, два волкодава, Заинька и
Настасья, посуху плывут из грозы.
Я как-то сказала КАК, я тогда
писала роман «План первого лица. И второго», это был какой-то восемьдесят
какой-то год, что я не верю, что параллельные линии не пересекаются, и привела
ему пример, что вот если взять две параллельные спички и поджечь их, то ведь
они пересекутся. «А ты сама знаешь, что такое план первого лица?» – в свою
очередь спросил меня он. Конечно, сказала я, план первого лица относится к
любимому, я тогда была страстно влюблена, а всё остальное – это фон. «Ты имеешь
в виду геометрию Лобачевского», – сказал КАК. Я собственно имела в виду страсть
обугленных спичек.
В общем, стихи писать просто. Не
так просто хулиганить в стихах. И совсем не просто писать о стихах. А уж совсем
не просто, когда предметом стихов становятся стихи. И КАК написал стихи
Пушкина, Хлебникова, Хармса, Заболоцкого, даже из живых Сапгира (потому что я
до сих пор не считаю, что он умер), Тредиаковского, можно назвать ещё разных
хороших поэтов, и это не будет преувеличением. Он так не любил моего любимого
Михаила Кузмина, что его не написал. А, может, не мог.
И тут я договорюсь до того, что
он поэт изподвыверта. Вообще-то это для меня самый большой комплимент.
«Премьера.
Я
загримирован
я
на верёвках ввысь парю
я
в рампе заживо горю
я
с башмачками вниз спускаюсь
и
Золушкиного лица
слезой
нечаянно касаюсь
Вот
башмачки из хрусталя
Возьми
их Золушка скорее
Хрустальные
возьми земля
А
кожаных я не имею».
Страсть к сочинительству – самая
страшная страсть. Поэтому чтобы ничего не сочинять, расскажу я вам одну
историю, вымышленную, про то, как ходили в магазин – в деревню. Неужели жизнь
ради рассказа? А жизнь – это реальная история или сочинение? Например,
воспоминание о каком-то запахе – это повод для какой-то реальной истории? А что
было сначала? То ли запах, то ли история? Кто знает?
«На
дворе трава
на
траве дрова
дух
древесный
кружится
голова
Стрекоза
трепещет в моей руке
пароход
гудит
я
бегу к реке
Я
с отцом занимаюсь культурой речи
а
коза понимает по-человечьи
– Кар-р-р! – кричат вороны , чёрные птицы
Продолжаются первые репетиции
А
отец упрямо твердит с утра
– На дворе трава, на траве дрова...
Стрекоза в руке моей чуть жива»
И КАК никогда не мог ответить, ну
как можно быть или крестьянином или рабочим. Он даже не мог быть ни тем, ни
другим. Даже ремесленником. Хотя, кажется, Розанов, тоже мой любимый поэт,
потому что чистая философия это и есть в чистом виде поэзия, так вот, кажется,
он сказал: не выходите, девушки, замуж за поэтов, выходите лучше за ремесленника.
Так вот есть и крестьянин и рабочий. А есть крестьянин-рабочий.
Крестьяне-рабочие как пчёлы, которые обхаживают матку. Или они действительно,
эти пчёлы, придурки? или они прикидываются? Вечно в похмелье, губы еле
шевелятся, что скажут, не разберёшь, а у Брейгеля-старшего вообще из дурдома –
изподвыверта.
Или они все сами по себе, а я
сама по себе, или я больше никого не
полюблю, потому что это тогда не имеет смысла – изподвыверта. А что
значит смысл?
А то, что в чём-то должно что-то
заключаться.
Остальное бессмысленно.
Вот, например, груша.
Её даже можно съесть.
А потом-то и окажется, что то,
что ты съел, – этого нет.
Это даже не пустота, да какая так
пустота, это просто раз изподвыверта.
Ты знаешь вкус?
Что бы ты выбрал? быть слепым?
глухим? немым? Или разговаривающим попугаем? Интересно, вкладывает ли попугай
какой-то смысл в то, о чём он говорит?
Вот, например, он говорит –
«попка-дурак», а он-то сам знает, что именно он «попка», и именно он «дурак»?
или это для него просто набор слов? забор? Звук, над которым эти глупые люди
смеются.
Она была пастух, а он ее
единственное стадо. И он шёл сзади неё, типа какого-то кандидата наук, в
непромокаемой куртке, с опущенной головой, как будто эту голову должны были ему
отрубить – так она видела. И на всё это шёл дождь. Они бы могли так ходить сто
лет...
А, может быть, они тоже люди? а,
может быть, у них тоже своя жизнь? кто знает? это догадки...
И вот мечта, которая пока ещё не
осуществилась – мне так хотелось очень давно, ёщё в детстве, чтобы мужем моим
были два брата. Один из них был бедный, а другой богатый, так распорядилось
наследство. И сначала я хотела, чтобы моим законным мужем был богатый брат, а с
его бедным братом мы бы тайно занимались любовью. А потом богатый брат об этом
узнал и нас убил. Нет, всё наоборот, он узнал и нас простил, и мы занимались
любовью втроём, с двумя братьями.
Или даже не так, моим законным
мужем был бедный брат, и чтобы добывать какие-то деньги, я тайно занималась
любовью с богатым братом, а бедный об этом узнал и нас убил, нет, он нас
простил, и мы занимались любовью втроём.
Аввариантов –
мннооожжистттвооооо...
Я всё равно за счёт кого-то живу.
Сначала за счёт мамы и папы,
бабушки и дедушки, за счёт мужа, друзей, и за счёт русской литературы и
поклонников моего таланта (в любых проявлениях: включается интерьер, походка,
голос и просто так...)
А, собственно, почему я не живу
за свой счёт?
А, собственно, что у меня есть?
То, что никому не принадлежит, в
том числе и мне.
Допустим...
В течение нескольких дней я живу
за счёт приятелей. Очень милые ребята.
Один похож – на Джойса. Второй –
на Эйнштейна с высунутым языком. Третий – на мишку на лесоповале, с известной
картины Шишкина «Мишки в сосновом лесу», или в какой-то там роще, не помню щ а
с...
Они галантны, они ухаживают за
мной.
Я просто таю- ю - ю- юю - ю...
Они конечно люди. Но в то же
время и не совсем.
Не то, что они не мужчины. Но они
меня не волнуют.
А почему?? Нет, нет, нет – в них
нет ничего отталкивающего.
В некоторых бабниках этого
отталкивающего бывает и побольше.
Один из них, этот бурый медведь в
сосновой роще, даже красив.
У него красивый голос и он
улыбается.
И он меня не волнует.
Он знает, что он умеет улыбаться.
Наконец-то я поймала эту улыбку,
обращённую ко мне. Потому что она была налету.
«В
это время змея сползающая в мазуте
оставляет
вожу на шпалах как шлейф Карениной
«В
это время в гостиную вваливается Распутин
и
оттуда вываливаются фрейлины
всё
охвачено единым вселенским засосом
млечный
осьминог вошёл в осьминога
двое
образующие цифру 8
друг
из друга сосут другого
Так
взасос
устремляется
море к луне
Так
взасос пьёт священник из чаши церковной
так
младенец причмокивает во сне
жертвой
будущей обескровлен».
В этом смысле, самые здоровые –
голландцы в скверике.
Они смотрят на солнце.
«Саратовская боль любви
первоначальной
не
назывная, приставная боль
как
сеча при Керженце
когда
от угла до утла
стоят
четыре стола
Но
если
все
испуганы птицы грелки
пряники
на
востоке изнывает заря
О
армада
я
твоя принцесса-коза
надо
мне надо
надо
мной мир дурак
расстановка
сил
что-то
наподобие костяка
Сам
я изнываю
и
недруга призываю
о
умоли мою мать
о
моли»
Получается, что хорошие - это
только моногамы.
Раз в жизни влюбился.
Раз в жизни женился.
И раз в жизни по – е -
е-ха-хаал-е , а больше ни с кем ни пе-ре-е-е-ха-а-л.
Такого случая я в жизни не
видела.
Буду очень признательна, если
подобные факты поступят.
Но как это можно проверить, что
это факты.
Потому что ни читателям, ни тем
более писателям верить на слово нельзя.
Да мало ли что привидится даже
моногаммам....
«Танюша-растяпа
забыла
чулочек надеть
а
в нем ведь пальчики были
и
ближняя козочка
всё
лелеяла
и
растекались боженьки по поляне
Надолго
ли к нам
Надолго»
И не надо эту репродукцию с
картины Шишкина показывать мишкам в зоопарке. Там этот мишка в зоопарке себя не
узнает, а вы как думаете?
Эйнштейн тоже оказался приятным
собеседником.
Сначала он только язык показывал,
а потом разошёлся, то есть изподвыверта!
Замечу, что компания была приятна
ещё и потому, что ревность в виде пола в ней отсутствовала (то есть мужчины к
женщине) – отсутствовала. Так как бывает в так называемой нормальной компании.
Запутавшись в лабиринтах
многоэтажных панельных домов, в общем, почти в центре в каком-то странном
районе, тем более, почти ночью, в общем, было уже почти темно, хотя ничто не
напоминало рассвет.
Так вот вышел навстречу мужик
вполне приличный, а прямо – изподвыверта – и я ему говорю (зная про
единственный ориентир):
– простите,
а где здесь у вас труба?
Он всё понял и сказал:
– пойдём со мной
Я всё поняла и сказала ему в
ответ:
-–нет, я имею в виду в
архитектурном смысле.
То есть изподвыверта....
С моим приятелем мы посетили кафе
рядом с «Вопросами литературы», в
полуподвале, а «Вопросы литературы» – в бельэтаже, а «Дружба народов» – у
Толстого Льва Николаевича в конюшне. У всех своё место. Даже у рыбок в
аквариуме.
И мы с моим приятелем в этих
«рыбках» заказали по
Он, такой галантный, сама
любезность, принёс нам воды прямо из бутылки.
А вечером, как ни странно, я
оказалась в том же кафе, где не было ни одной женщины, кроме автора этих строк.
Но вот что странно! Среди мужчин
я видела не то что женщин, это были некоторые производные, то есть, как бы
сказать, забыла, как это называется, когда число не может разделиться, и
получается такой остаток, который до конца разделить невозможно, то есть такая
неудовлетворенность пола, такой бесконечный остаток, потому что когда мальчик и
мальчик – у них одно и то же, а когда
мальчик с девочкой – у них разное, а в сторону Христа Спасителя – у них пробки.
А люди говорят:
«как пить дать»
значит есть вода.
А люди говорят:
«ты плюнул мне в душу»
значит есть душа.
А люди говорят: «с милым и в шалаше
рай»
значит есть рай.
А люди говорят: «гореть тебе
синим пламенем»
значит есть синий свет, про
который люди говорят.
А люди говорят: «мы пахали».
Значит есть мы и значит они
пахали.
А люди говорят: «царствия
небесного»
значит есть царство, про которое
знают люди, что оно царство.
А люди говорят: «с миру по
нитке».
значит есть мир, есть нитки, и
есть люди.
А люди говорят: «скатертью
дорожка».
Скатерть? накинутая на эту
дорожку? про которую люди говорят?
«На
чугунной плите написано:
...
член Общества Геттингентских северных
антиквариев
почётный
попечитель и многих орденов кавалер...
Ни
слова о воображаемой геометрии»
И 3 П О Д В Ы В Е Р ТА. . .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Масса
цветка
равно
цвету мазка
у
Пикассо
где
акварель –
это
стрекозы полет
и
цветок остановлен полотном
На
нем
барельефы
ревнуются
и
повинуются
жесту
смотрящей
Лента
Мебиуса
вплетенная
в ее косы –
это
встреча на острие осы
наматывающей
ленту Мебиуса
на
небо глобуса
Людмила
Ходынская
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Они вышли через черный ход, откуда обычно выходят на улицу кошки. На
уличных часах, на обломках стрелок сидели две птицы. Часовая птица точно
показывала четыре. Минутная колебалась между четвертью и половиной, но все
вместе обозначало, что шел пятый час утра. Холод суеверно, как и во все
времена, прятался в рукавах пальто и у самой шеи. К веревкам сначала большие,
потом помельче, помельче, помельче, были припечатаны носки. Урна, не снимая
перчаток, достала из сумочки бутылку белого вина и, улыбаясь, протянула ее
Сокра.
Валерия
Нарбикова. Фрагмент романа из жизни ДООСа
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНСТАНТИН КЕДРОВ
Компьютер любви
Версия
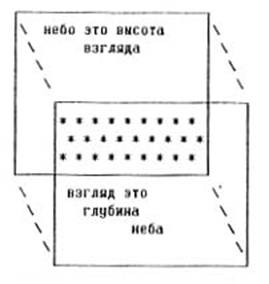



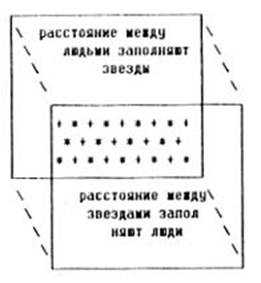
Лауреат премии GRAMMY.ru в номинации
«Поэзия года» 2003 – поэт, доктор философских наук Константин Кедров в
Другие
публикации поэмы: «Компьютер любви» (оформление А.Бондаренко и Дмитрия
Шевионкова). – М., Худож.лит, 1990. «Поэтический космос». – М., Сов. писатель,
1989. «Лонолет». – М., Изд. ДООС, 1988. «Транстарасконщица». – М.- Париж,
Вивризм, 1989.
«Порыв». – М.,
Сов.писатель, 1990. «Компьютер любви» (с фотоиллюстрациями Алексея Годынова). –
М., Рекл.агентство «Бегемот», 1995. «Метаметафора». – М., Изд. Елены Пахомовой,
1999. «Или» Полное собрание поэтических сочинений. – М., Мыль, 2002.
«Черный квадрат»
(на рус. и фр. языках; пер.на фр. Кристины Зейтунян-Белоус). – Париж, Изд.
Ассоцации русских художников Франции, 1991.
«Верфьлием». –
М., Изд. Р.Элинина, 1991.
«Вруцелет». –
М., ЛИА ДОК, 1993.
«Алмазный фонд.
Три ДООСа». – М., Изд. ДООС, Изд.Р.Элинина, 2003.
Заинька
и Настасья
Растерянно стрела летела
не задевая тела
летела вдаль стрела ночная
дробя осколки дня.
Я ни о чем не думал дольше
чем веер четырех сторон
растягивалось вдаль пространство
там я летел
Кому принадлежит сей остров
сия страна
Корабль распахнутый как поле
из ничего
он втиснут в кромку голубую
из этих фей
навеянных прохладой горькой
лугов стогов
Дарован бабочке небесной
древесный плот
она распахивает двери своих двух крыл
и вовлекая все пространство в свои слои
плывет та теневая фея из сдобных сот
Как голубь начинал ворклив
дробить свой звон
на самом дне всего пространства
мой сонный сын
Негеют голуби из грома
древес
нас обнимают тамариски и ломота
холодного движенья
подрагивания листа
на грани вод
Тот праздник сановных взоров
где я из огня воды
из космоса шлют тарелочки
в заоблачные сады
Там синеворот
ворота открыл
а вот заарканив плоть
выныривает из гласных нот
всемирный зеленый конь
Не опрометчивым будь ты как
Не затемняйся где
Видимо око
и зарев верх
в неотраженной воде
Ты из волны добывай волну
а из струны струну
Слишком родной тебе этот дом
и громогласный сад
трижды вычеркнутый из книг
но напечатанный по слогам
в поминальник
или в букварь.
В конечном итоге ты только шрифт
рассыпанный по лугам
все состоит из себя во всем
будет луг твой
как голубок
Улетая за облака
где нет твоих глаз
не надейся что улетишь
В каждом облаке расширен зрачок
достигающий двух криниц
Лесосплав или лесоповал полуслов
так уплыл этот плот
где не тонет нога
но зачем мне дана нагота
Был я лирником и мурлыкой
орамура
отныне
я в тесном не-сне живу
постоянно воспламеняем
люблю
Два волкодава Заинька и Настасья
посуху плывут из грозы
Как королевич твой Сигизмунд
так и мой кротокоролевич Речь
гремя турнирами
входит в розовый будуар
а я нечаянно опрокинул коня
огибая твою линию
и еще один интимный изгибчик сзади
Я надеюсь что оба конника
благополучно доскачут вдаль,
но даже если не доскачут
им гарантирован самострел
таран
и уже совсем ненадежная центрифуга
отделяющая
небо-масло
от земли-молока
Так думал я
входя в трухлявый пень
за что меня возненавидел муравьиный род
обросший крыльями на время
пока тонул в трухе железный рыцарь
теряя латы, саблю и коня
Девчурочка-полотнянка
прочирикай и прославь
мои пламенные речи
про твои нагие грудки
от которых я устал
Не теряй свой мокрый лифчик
чтобы он не улетел
дальше близлежащих
деревень и сел
полей лесов лугов.
Так думал я,
сравнивая павую и левую сторону
белой девочки
подсыхающей вокруг неба
Я решил, что справа
всегда немножко больше чем слева
и вспомнил жалобы
что правому всегда достается больше
Даже от собственного тела
приходится иногда таиться
Сколько бы ни было лет вселенной
у человека времени больше
Переполняют меня облака
а на заутрене звонких зорь
синий журавлик и золотой
дарят мне искренность и постоянство
Сколько бы я ни прожил в этом мире
я проживу дольше чем этот мир
Вылепил телом я звездную глыбу
где шестеренки лучей
тело мое высотой щекочут
из голубого огня
Обтекаю галактику селезенкой
я улиткой звездной вполз в себя
медленно волоча за собой
вихревую галактику
как ракушку
Звездный мой дом опустел без меня
Ты будешь больше солнца больше света
на волоске громадного себя
Ты не похож на гром луны
ты гололед вчерашних рам
луч громкого пространства
вчерашнее ничто
сегодняшнее окостенение
любоцвет
восточная отроковица
гнездышко бурь
Не надейся на светотень
на тень пролетевшей птицы
В водовороте огня-воды
сонный вол гладиолус
тот вертоград
где луны вытекающий глаз
и взгляд
слепо обводит горизонт
никогда вчера
Не проморгай троянскую плоть
не саблезубь в три горла коня
это заря овса утекла
и захрустела свежая мгла
Неужели вписали в криницы
костенеющий взгляд и зрачок
В полдень неба толчков
и роды
Боже
обагри
Разве не плывет незабудка в златоткань
из нутра нутра
Открой мне дверь
ведь я колдун залетный
не тральщик
Неужели из нутряного ткачества
не выткать небо
сердечное солнце
золотую звезду Настасью
Тихое дыхание ажурных хоров
из незатихающих листьев
Прощай отраженье
никогда еще не было ты так прозрачно
За день распадается время
На границе меж взлетом и взлетом
златорогая птица плывет
танцевальная плоть стрекозы
переливчата как стрекоза
Нет ни тела
ни даже того что вне тела
кроме грозных стрекоз
ускользающих в нас
оставляющих нас
под настилом из тала
леденящего звездного жуткого нежного вихря
из тумана
и полновоздушного ада любви
От обилия праха настил оседает
и над бездонным затоном
тонны неги туманной
нагой
огнедышащей
плотной
Тронным листным настилом
и лопнувшим солнцем
от недавнего гнета оторванных плеч
в лунной Сызрани
и прошлогоднем опале
Точильщик-точильщик
верстальщик и веретенщик
атман и атаман из резни лазури
выпестовал няню
надзирающую за прахом
охотницу на стрекоз
веретеницу зорь
точильщицу огневицу
ластоногую конницу
уносящую все-все
на себе себя
в огнелицей буре
из платяного шкафа
наших и ненаших широт
Та мама моя велела
Не стынь на морозе
если облако впадает в невмоготу
Ладить надо кораблик ладить
Ведь эта ладья
от того туда
в лад уплывшая лада
На разных оградах
один железный узор
розы розы розы
заря из зорь
1983, Малеевка

Графика Дмитрия Шевионкова
Невеста
Невеста лохматая светом
невесомые лестницы скачут
она плавную дрожь удочеряет
она петли дверные вяжет
она пальчики человечит
стругает свое отраженье
на червивом батуте пляшет
ширеет ширмой мерцает медом
под бедром топора ночного
рубит скорбную скрипку
тонет в дыре деревянной
голос сорванный с древа
держит горлом вкушает либо
белую плаху глотает
Саркофаг щебечущий вихрем
хор бедреющий саркофагом
что ты дочь обнаженная
или ты ничья
или звеня сосками месит сирень
турбобур непролазного света
дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов – 8
перемалывающий храмы
В холеный футляр двоебедрой
секиры можно вкладывать
только себя
Проститутка
Мне не нужна без тебя вселенная
истина эта проста как опять
я повернул свое время вспять
чтобы не видеть тебя никогда
без тебя без вселенной один на один
любим-нелюбим-нелюбим-любим
Я серый плотник я сколотил табуретку
и вот сижу на ней посреди себя
и нет никого здесь кроме меня
и моей табуретки.
Вот она шотландская бездна
Засветите день приостановите смерть
Далее далее вплавь в пустыню
где нет тебя где нет меня
О свобода горькая как мертвые губы
прощальная окостеневшая
Ты не знаешь в какую сторону
сдвинется вдруг пустыня
Но даже если не сдвинется ты не знаешь
Не растрачивай себя на Китай
Будет время когда не будет даже Китая
В моей крови нет золота
но свобода одинокой любви
это тоже где-то в крови
Всемирная сотня кражи добра
смело за мной в небесную антиневесту врывайся
Итак Шанхай
Ханой Ханаан
отдаленные местности где живут ханаанцы
гордые как невесты
мои классовые друзья
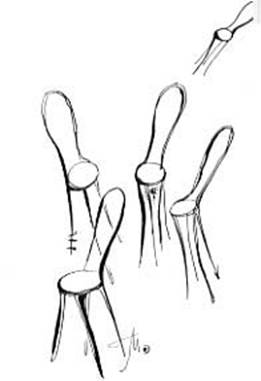
Графика
Галины Мальцевой
Венский
стул
Саратовская боль любви первоначальной
неназывная приставная боль
как сеча при Керженце
когда от угла до угла
стоят четыре стола
Но если
все испуганы птицы грелки
пряники
на востоке изнывает заря
о армада
я твоя прицесса-коза
надо мне надо
надо мной
мир дурак
расстановка сил
что-то наподобие костяка
Сам я изнываю
и недруга призываю
о умоли мою мать
о моли
Линия Ниневии
Венский Вальс
Венский стул
Венский лес
Венский вальс-стул-лес
Венский лес-вальс-стул
Когда я буду ты
когда ты будешь я
венский
раз-два-три
стул
венский
раз-два-три
лес
Когда ты будешь лес
когда я буду стул
когда я буду ты
когда ты
вальс-лес
О мои мрежи
все жены
тихо блюди
ноженьки мои
вложи в ножны меч
Кто с мечом к нам придет
Тот
Аномалия
кривого угла
Танюша-растяпа
забыла чулочек надеть
а в нем ведь пальчики были
и ближняя козочка
все лелеяла
и растекались боженьки
по поляне
Надолго ли к нам
Надолго
Карлушечка будем петь
будем Настеньку беречь
будем котика дарить
и наркотики макать
и калачики любить
Дай мне ноженьки твои
неженьки
женишки-грибочки
ох мама моя ох
Наталья
ли
Торопился я навстречу
а зачем я торопился
если свадебная лягушечка
всю икорку снесла и съела
– Доченька не будь блядью
– Ладно мама не буду
На хуторе в близлежащем селе
жил один пастор
у пастора была Груня
но нигде более не было Груни
только на хуторе у пастора
в близлежащем селе
Тогда зарядил я шарманку
кассетной шрапнелью
и начал песенку петь
о песенка моя сисенька
Далее что-то про общественные устремления
и потом лес из стульев венских
Венский
и конечно мала зарплата
куча-мала
куча мела
мусью Дидерот
рантье из версальского предместья
вот ему-то
вот ему
предстояло быть венским стулом
в том случае
если пастор и пастораль
наконец-то отыщут друг друга
Что же мешает им
пастору и Грушеньке
друг друга потешать-любить
обогревать и гардинить
Оказывается виноваты злодеи
это они отгрызли ноготки
у козочки гризли
сняли с нее колготки
и пустили в лес-огород
несовершеннолетнюю
совершенно летнюю
весьма далекую от совершенства
и в то же время довольно близкую
к совершенству
рудиментарную
безостановочно грызущую
козочку-стрекозу
– Ай люли –
как говаривал Достоевский
Вологда недавно была невидаль Волги
а теперь
откуда ни выйду
никуда не войду.
На таможне обнаружен мальчик
из спелой репы
систематическое злоупотребление алкоголем
приводит к обугливанию
и углублению противоречий
между пастором и козой
Декрет
Настоящим
все
становятся матерями
Исполнение доложить мне
или моему секретарю Рюрику
В случае невыполнения
расстрел
с пожизненной выплатой
и выселением в селения
праведных
где несть
идеже несть
болезни печали
ни воздыхания
но жизнь
быстротечная
Секретарь
Рюрик
Исполнение доложить
Ой мама моя ой Наталья
ли
Я ли
тебя не холила
не лелеяла
Ой нюни
Гадалка гадала
вот и нагадала
Ох ти мне христенька
вертихвостка турбулентная
паровозометростроительная
строительнометропаровозная
Тузенбах бах
Бенкендорф бух
Пал Пушкин
Пал Лермонтов
Пал Лемешев
Пал Полежаев
Полежал и пал
Но я твой наставник и благочинный
несу ответственность
не только за колготочки
но даже за все чулочки
Трам-тарарам
Тарарам
Там-там
Там-тарарам
Тарарам
Трах-тарарах
Трах-трах
Трам- тарарамтарарам
Тах-тах
Трах-трах-траз-трах
Трах
далее все зависит от темперамента
но можно не более сорока минут
Все мы вычеркнуты Настей
из заветненького списка
там и я стоял в углу
Но безжалостная Настя
вычеркнула всех навеки
она сердце отдала
злому карлику Капусте
он ее недавно съел
Так сказал на венском стуле
из вольтеровского кресла
пересев туда Вольтер
Но на острове Буяне
не буянит уж никто
кроме самого Буяна
он бо вещий
аще струны
на персты твои влагаша
из влагалища былого
во влагалище златое
и промолвил песнь таку
– Не буди меня и не плачь
я тобою навеки буду
и забыть тебя никогда не в силах
даже если совсем забуду
Мне не милы ни деревеньки
ни городишки
ни даже девы
усыпанные бисером
ни золотые усыпальницы
копилки-кубышки
Настенька-Настенька
стенаю ночами
и почернел весь от горя аж
как обугленный пещь
Нету мне счастья нету
Напрасно кудесники гадали
на гладильных досках
напрасно судили
уже мне горе-любовь
на горе любви
Сычинение
Детство я провел хорошо
а юность еще лучше
В отрочестве меня любили
потом позабыли
Потом теперь я уже стал взрослым
и у меня выросли волосы на лице
С тех пор прошли годы но я все еще мечтаю
выйти замуж или жениться
1982
Астраль
Астраль леталь внематериаль
в надматериаль леталь астраль
Ковши астральные взрезают землю
из двух Медведиц небоземлеройка
марсозем лунозем
глинозем чернозем
Вот змей астральный ползет на свет
он весь увит звездами
он чешется из шкуры выползает
и оставляет только небо
да тельце голое мое
и я Телец
и тело целое мое телеет тлеет
в пожаре угольном Стожар
астропитек
австралопитек
астралопитек
На берегу пустынных волн
стоял он дум астральных полн
Астри астрай моя астра
астра любви
приветная
ты у меня астра астральная
астрой не будешь не астра
Твой астры астральной силою
вся жизнь моя астранена
умру ли я и над астрилою
астри астрай моя астра
ПРО-АСТРА-ЦИЯ
ЦЕФЕНЕЕТт
р-астр-ига Гапон
в су-
гробе
Рас-путин
Два-путин
драмаТургенев АСТРовский
и Лев Астрой
зеркало русской астролюции
Астральный дедушка Толстой
метет астральной бородой
летит астральный Черномор
качая буйной головой
Идет астральный Серафим
за ним Медведица бредет
он ей протягивает хлеб
Плеяд
и он уже Персей
с астральным лунным топором
прикармливающий звезду
А Богородица из звезд –
созвездье Девы
во весь рост
Бредет Девеевский астрал
астрит топорик
и уже
въезжает в Млечную межу
медведицын любимый сын
и сам медведь –
астральный Вов
Он въехал на небо живьем
с астральной пулей в пиджаке
За ним летит астральный друг
в его руке созвездье Рак
и в перстне на его руке
горит Полярная звезда
и он Медведицу как снег
отслаивает от подошв
Но в от уже в одном пенсне
идет нечесаный дурак
ступает книзу головой
а низ находится везде
Возничий издали возник
и вырвал грешный мой язык
и звездословный и астральный
и жало звездное змеи
в уста звездальные мои
вложил десницею астральной
Нас было много на челне
но многие уже в Овне
Нас было много на челне
но многие уже вовне
Болид болит
пустота постигается округлением
она орбитальна
плотина Плотина беспредельна
как пар Парменида
Я простираюсь из Ра-ум в Raum
ЯОН
не все ЯОН но небо и земля ЯОН
не все ЯОН но месяц и луна ЯОН
не все ЯОН но голос и звезда ЯОН
не все ЯОН но жизнь и смерть ЯОН
ЯОН не Инь-Ян он бездонный сон
он явен но Овен он виден но дивен
он давен но нов он Овн он ЯОН
Если отдаляется от тела боль
это ЯОН
если приближается к телу боль
это ЯОН
если углубляется в небо взор
это Орион
если
углубляется в сердце луч
это Скорпион
как от зеркала амальгама отслоится от неба взор
тьма да будет поводырем тебе
АСТРАЛИТЕТ – таково мое кредо
верую потому что астрально
астрал моего астрала не мой астрал
астрал моего астрала немой астрал
Кормилица света Кассиопея
моя звериная звездоглазка
все звезды приближаются к зверю
все звери приближаются к звездам
чем звезднее тем зверинее
Ихтиозавр – вот истинная Медведица
они не умерли но ушли на небо
Вот махайродус – Скорпион
вот птеродактиль – Лебедь
вот еще одно чудовище –
не то Онегин не то медведь
вот еще одна дура –
не то Елена не то Татьяна
не то Астарта не то Венера
Горизонтом называется
воображаемая линия между нами
Далече грянуло астра
Звезды увидели Христа
Тень тянется от луча
вот уже грузный грозный
вот уже лунный звездный
но звезды только тени небес
Весы поглощают вес
АСТРАЛЬ
Сириус вобискум
Сириус мизерере
Сириус элейсон
Сириус Езус
Сириус Петипа
Мицар мерцал
Царь зерцал и лиц
Денебя до неба
Час Чаши тише
Все слова происходят от корня АСТР
По-русски ЗВЕЗД
ЗВЕЗДа ВЕЗДе –
таков полный охват словесного неба
ЛИТИНСТИТУТ
Субботник
Профорг. Безобразие, нигде нет трусов. Все магазины обегал. Трусов нет.
Парторг. Знали бы студенты, что профорг без трусов...
Ректор. В трусах или без трусов, а субботник проводить надо. Это особый субботник, к столетию Ленина. Будет наш куратор из КГБ. Так что никаких распитий из горла.
Профорг. Как же здоровье Ильича не выпить?
Ректор. Это на твоей совести.
Парторг. Будем убирать собачье дерьмо на Тверском бульваре.
Профорг. Студенты?
Парторг. Нет, профессорско-преподавательский состав в полном составе. Дерьмо собачье.
Я. Что-что?
Парторг. Я говорю, дерьмо собачье вмерзло в лед. Придется поработать ломом.
Пушкинист. Как там у Блока: «Работа до жаркого пота»… Нет, лучше у Брюсова: «Тебе так привычна кирка и лопата…»
Я. Они когда-нибудь кирку видели? Разве что на гравюре Дюрере «Меланхолия».
Кирпотин. Ленин, между прочим, на субботнике лично бревна таскал.
Ректор. А Толстой пахал. «Ваше сиятельство, пахать подано».
Парторг. Ваши сиятельства, пахать подано. Прошу тех, кто еще не напахался, к ломам и лопатам.
Профорг. А в магазин кто?
Я. Я!
Профорг. Значит, быстро все по три рубля, можно больше.
Кирпотин. Я не пью и другим не советую.
Парторг. А я советую и пью.
Кирпотин. Мне пить нельзя, но три рубля ради общего дела дам.
Парторг и Профорг. За Ленина!
Пушкинист. А Ленин пил?
Я Неплохая тема для диссертации: «Что пил Ленин?»
Пушкинист. Смотря где. Если в Швейцарии, небось, «Мозельское». Если в Париже, то вдову Клико.
Я. А в России спирт с кокаином.
Ректор. Так мы далеко зайдем. Работайте дальше, а я пошел.
Парторг. Выпьем, говорю, за дерьмо собачье.
Профорг. За дружбу кафедры советской литературы с кафедрой русской литературы. Чтоб вы почаще к нам заходили.
Пушкинист. А ну вас. У вас, как на свадьбе – Горький, горький – горько, горько.
Профорг. Горько! Целоваться не будем.
Я. Вот у нас тут висит
изречение Горького: «Писатель не няня своей души, а мировое чувствилище».
Пушкинист. По смыслу все верно, что это за слово «чувствилище» и по аналогии с чем образовано?
Я. Влагалище.
Пушкинист. Вот именно, писатель – мировое влагалище. Как-то не ай-яй-яй.
Ректор. Мы так далеко зайдем и, как сказал наш студент, «обогáтим» русский язык.
Пушкинист. Вот и занимайся с ними!
Ректор. И будем заниматься. Заменим сочинение изложением.
Пушкинист. Да он и изложение не напишет.
Ректор. Тогда диктант.
Пушкинист. Да он и диктант не напишет.
Ректор. А вы по слогам диктуйте: ма-ма, па-па.
Пушкинист. А он напишет «попа».
Ректор. Не будем рубить сук, на котором сидим. У нас многонациональный вуз. Помните, Расул Гамзатов к нам пришел в калошах на босу ногу.
Пушкинист. А вышел в лаковых штиблетах. Вот что значит иметь хорошего переводчика.
Парторг. Ну, за дерьмо собачье!
Кирпотин. Это вы в каком смысле?
Парторг. За дерьмо, которое, надеюсь, за нас убрали.
Я. А где же прокуратор из КГБ?
Кирпотин. Этого никто никогда не знает. И не узнает.
Профорг. Нет, я все-таки пойду ломиком поработаю.
Пушкинист. Да, поработайте там за нас, а мы за вас выпьем.
Я. За дерьмо собачье! То есть я хотел сказать, за Ленина.
Парторг. Ах, молодежь, молодежь…
Пушкинист. Кругом дерьмо, одно дерьмо. Как можно так засрать мемориальный бульвар! Это как в мемуарах Кутузова: «Как вы победили французов, Михаил Илларионович?»
Кутузов.
Сбоку нас рать,Спереди нас рать,Сзади нас рать,И битвою мать Россия была спасена.Не хвались, идучи на рать,А хвались, идучи с рати.Пушкинист. А все-таки Белый мудрил, мудрил, а потом взял да и написал «Пепел», как Некрасов:
Мать Россия, о родина злая,Кто же так подшутил над тобой?Я. Какая разница между ЦК и ЧК?
Парторг. В ЦК цыкают.
Профорг. А в ЧК чикают.
Кирпотин. С вами недолго и загреметь.
Ректор. Ну, как, все еще убираете?
Пушкинист. Уже все убрали. А где же куратор?
Ректор. Приходил. Ушел. Очень благодарил. Всем доволен. Налейте и мне, пожалуй.
Пушкинист. За Ленина!
Ректор. Засрали всю страну собачьим дерьмом, а мы убирай.
Я. Тогда за всю страну.
Ректор. И за наш институт.
Парторг. Я вот из Парижа книжку привез, Бердяева. Тут сказано, что в России есть что-то бабье.
Пушкинист. Как же вас сквозь таможню с Бердяевым пропустили?
Парторг. А я в трусах спрятал.
Я. Так ведь трусов нет нигде.
Профорг. Потому и нет, что в них все Бердяева прячут.
Бердяев. В русском человеке есть что-то бабье. Обожание военных, преклонение перед диктаторами.
Я. А нельзя ли вывести породу собак, которые не гадят?
Пушкинист. И человека, который не ест.
Циолковский. Со временем люди научатся, как бабочки, выделять пыльцу и питаться светом от солнца.
Пушкинист. А кто же будет собачье дерьмо на ленинских субботниках убирать?
Я. А субботников не будет. И Ленина не будет. Будем порхать, как бабочки, и выделять пыльцу.
Вешатель
И вышел вешатель вешать. И вот одного он повесил
вкривь, а другого вкось, а третьего прямо. И все сказали: «Раньше он вешал
вкривь и вкось, а теперь он вешает прямо». Но от этого никому не легче: ни тем,
кого он повесил, ни тем, для кого он повесил. Ни тому, кого он повесил вкось,
ни тому, кого он повесил вкривь, ни тому, кого он повесил прямо. И никто не
сказал спасибо вешателю за его нелегкий труд. А ведь он так старался повесить
прямо.
Кафедра
Шкловский. Закройте форточку. Дует. Я старик, могу
простудиться и получить бог Ван Гон, сегодня сезон – Сезанн». Сегодня сезон –
Бахтин. Хорошо. Но когда Бахтин пишет, что у Дон Кихота голова, а у Санчо зад,
я вспоминаю, что у Санчо тоже голова. Мы – футуристы. Нас на мякине не
проведешь. Это теперь здесь институт, а раньше было воспаление легких. У нас, у
футуристов была пословица Маяковского: «Вчера сезон – наш кафе поэтов. Где у
вас туалет? Вот тут, возле этого унитаза стоял столик, и мы с Маяковским говорили
о будущем. Ведь мы – футуристы. Футуризм – будущее. Но даже мы не могли
представить, что на месте, где мы сидим, потомки поставят толчок.
Я. И тут я подумал, а что возведут потомки на месте
нынешнего толчка? Может, памятник ворчащему Шкловскому с палкой, поднятой
вверх, а может… Впрочем, кто их знает, этих потомков. Восемнадцать лет я
работал на кафедре, в комнате, где родился Герцен. Я сидел на мемориальном
диване в мемориальной комнате и думал, что Герцен при самом пылком воображении
вряд ли мог представить кафедру русской литературы и речи, которые там будут
звучать. Есть фильм «Никто не хотел умирать». Я бы назвал эту кафедру «Никто не
хотел убирать». Но убирать меня было поручено новому зав. кафедрой из Воронежа,
никому не ведомому Основину. Кирпотина к тому времени отправили на пенсию. Но
почему-то я не могу представить себе заседание кафедры без Валерия Яковлевича.
Пусть он тоже будет.
Основин. Будем откровенны. Как сказал ректор, «органы,
которые призваны следить за политическим и идеологическим климатом страны, с
тревогой говорят о лекциях Константина Александровича».
Кирпотин. Мы были на публичной лекции, просматривали планы,
кроме того, все не раз посещали занятия Константина Александровича. Его лекции
увлекательны, иногда спорны, но ничего супротивного в них не просматривается.
Пусть те, кто имеют претензии к нашему преподавателю, четко сформулируют, что
они имеют в виду.
Основин. Дело в том, что, по их утверждению, наш студент из
Липецка якобы под влиянием лекций Константина Александровича уверовал в Бога.
Но это еще не все. Он вышел из партии. На самом деле это сейчас происходит
везде и всюду – перестройка. Однако списывают на нас.
Кирпотин. Я атеист и марксист.
Я. Но в мировой-то разум вы
верите?
Кирпотин. Скорее в мировое безумие.
Пушкинист. Я и раньше предупреждал, что у вас есть крупные
методологические ошибки.
Я. Слово «методологические» Пушкинист произнес почти
по слогам. Дело в том, что для отстранения от преподавания могут быть только
два повода: уголовное преступление или методологические ошибки.
Пушкинист. И вообще, есть в вашем облике, и внутреннем и
внешнем, что-то, что противоречит статусу преподавателя нашего института.
Примите это от меня после 17 лет преподавания.
Я. Это не обсуждение, а правеж!
Кирпотин. Вы молоды и не знаете, что такое настоящая
проработка. Слава Богу, сейчас другие времена. От ошибок никто не застрахован.
Я думаю, что Константин Александрович извлечет должный урок из случившегося и в
следующем учебном году усилит методологию. А мы все ему в этом поможем.
Основин. Может, не надо «методологические»? Напишем просто
– неточности.
Пушкинист. Согласен, но только мое замечание обязательно
обозначить в протоколе… Помню, когда мы вошли в Берлин, началось массовое
бегство офицеров и солдат в американскую зону. Первое время это было легко и
просто. А потом стали хватать. И схватили моего приятеля. Он уже из окна
намылился прыгнуть, но кто-то настучал… (Ложится в гроб). Эх, молодежь,
молодежь. Это ведь только в песне поется:
Когда страна быть прикажет героем,
у нас героем становится любой.
Основин (ложится в гроб). Слава Богу, мне за это
заседание влепили выговор по партийной линии, и вообще мне осталось жить
полтора года.
Кирпотин (ложась в гроб). Странно, но я проживу
дольше всех, до 93 лет. Я мар-р-рксист, хотя Маркс и Энгельс ошиблись в
прогнозах на будущее и в отношении религии. Без Христа невозможно понять
историю. Вернее без Христа не было бы вообще никакой истории. Меня научил этому
Достоевский.
Я. Прав Кирпотин, без Христа не может быть никакой
истории, кроме истории с Берлиозом на Патриарших прудах.
Пушкинист (высовываясь из гроба). И вообще не нужно
никаких художеств. Надо просто писать правду. Прав Пастернак. Стих – это куб
дымящейся совести и ничего более.
Я. Согласен, но почему именно куб, а не спираль, или
шар, или вообще лента Мебиуса?
Пушкинист. Формалист вы неисправимый. Правильно КГБ вас
отстранило. Но я был против, в протоколе записано (закрывает крышку гроба
изнутри, оттуда доносится голос).
Я помню чудное
мгновенье,
передо мной явилась
ты,
как мимолетное
виденье,
как гений…
Я. Заседание парткома, где
якобы решалась моя судьба, я, беспартийный, благополучно проспал. Не от
повышенной смелости, а просто проспал и все.
Ректор. Может, не будем
рассматривать вопрос о Константине Александровиче в его отсутствие?
Лев Ошанин. Нет, почему же? Согласно
уставу дела членов партии должны рассматриваться в их присутствии. А Константин
Александрович беспартийный, стало быть, имеем право рассматривать.
Радио. Передаем «Марш
демократической молодежи мира» на слова Льва Ошанина.
Люди молодые,
всех народов и разных наречий,
Сердцем и
душою
мы стремимся
друг другу навстречу.
Цель наша –
правду отстоять,
Мир для людей,
Чтоб увидала
каждая мать
Счастье своих
детей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
В
окруженье умеренно вянущих роз
обмирает
в рыданиях лето
Гаснет
радужный крест стрекозы
где
Христос
пригвождается
бликами света
Поднимается
радужный крест из стрекоз
пригвождается
к Господу взор
распинается
радужно-светлый Христос
на
скрещении моря и гор
Крест
из моря-горы
Крест
из моря-небес
Солнце-лунный
мерцающий крест
крест
из ночи и дня сквозь тебя и меня
двух
друг в друга врастающих чресл
Константин
Кедров «Крест стрекозы»
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕЛЕНА КАЦЮБА
Я слышала
Я слышала, что некоторые садятся за стол и пишут
стихи. Работают. Ну, не знаю. Ведь стихи – это состояние. А какое состояние у
человека, сидящего за письменным столом и пишущего стихи? Что он сидит за
письменным столом и пишет стихи? Сочиняет. Это все равно, что ловить бабочке на
балконе. Может, какая и залетит. Стихи сочинять невозможно. Они возникают и
запоминаются, когда им самим захочется. Просто надо уловить момент и записать,
чтобы не исчезли. Игорь Холин настойчиво твердил, что в стихах должно
чувствоваться время. Значит, у его стихов было свое время. У моих стихотворных
текстов времени нет.
Высказывание Тютчева «мысль изреченная есть ложь» не
корректно. Ведь мысль – это то, что сформировано словесно. Пока она не
высказана, не изречена – превращена в речь, она и не мысль вовсе, а ощущение. А
вот чувство, выраженное напрямую, пересказанное, нередко звучит фальшиво, как
будто с чужого голоса.
Иногда впечатление, переживание очень долго ждет
своей формы, чтобы превратится в слово. Однажды, еще школьницей, я ехала зимой
в холодном троллейбусе. Сзади, прижатые толпой к замерзшему окну, стояли
девушка и парень, молча смотрели друг на друга. Потом она подняла руку и теплым
пальцем на ледяном окне вывела: Ю – Ю. Ну, как Татьяна Ларина, «на отуманенном
стекле заветный вензель…» Прошло больше 20-ти лет, прежде чем это «Ю – Ю» вдруг
проявилось в моем собственном в тексте. Не в промерзшем насквозь троллейбусе, а
в теплом морском прибое.
… «Нет!» – оглушающе крикнет
волна.
«Да…» – отзовется у самого
дна
себе самой.
Ты не заметишь,
как променяешь,
ты променяешь! –
всю веру мира
на эту игру с волной.
В слове ЛЮБЛЮ
две гласных Ю
и ни одной другой.
В 1983 году мы с Костей провели лето в Малеевке, в
Доме творчества. В солнечную погоду мы плавали на лодке по пруду, над которым
летали стрекозы. А в прозрачной воде медленные улитки сплетались в шевелящиеся
гирлянды. Костя написал поэму «Заинька и Настасья» прямо сразу, в те же дни. А
у меня прошло лет пять, когда вдруг всплыл из непонятных глубин текст,
состоящий из тех же самых «первоатомов», но совершенно другой.
О = зеро
Улитка вне… чего?
Улитка вне себя?
Едва ли
когда бы свой каркас
собою вы назвали.
Улитка вне… вне черепа,
как любопытный мозг,
ловя лучи в себя насквозь.
Улитка вне небес?
Как небо вне воды,
как музыка – везде.
а нотный стан ей старт.
Ночной озерный лак роялен,
реален
плеск и шелест в нем,
но днем
иные ноты:
до ос, и т-ре-ск стрекоз,
и водяных жуков лихое ралли
на отраженьях облаков.
Улитка – ключ,
которым заперт мир внутри
спирали,
улитка вне времен,
улитка – воин,
рогатый страж
бездонного ноля.
Однажды мы зашли к Лере. Она писала новый роман. На
белом круглом столе лежали желтоватые листы бумаги, покрытые строчками,
выведенные простым серым карандашом. На полу лежал сияющий прямоугольник окна,
перекошенный солнцем в параллелограмм. Пока мы разговаривали, я машинально
просмотрела несколько листов, не вникая, и за разговором на таком же листе
карандашом написала текст:
Караван
Ш-у-у-у-у песка
Ш-о-о-о-о шага
Оса солнца
Хо-о-о-о-о горбов
О-о-о-о-х следов
Скольженье верблюда в
игольное ухо луча
шатают челюсть перевесом
губы горбы
горизонт изогнут шеей
дорога между ушей
колокольчик клокочет
в черепе света
дыры тьмы
зрачка узор
стелет ковер
песчинка к песчинке
Пузырек слюны –
зеркальный шарик
летает лопается
оставляя кружок – кольцо
наискосок
тень через лицо
Какое это имело отношение к тому, что писала Лера, и
какой именно это был роман, я не знаю. Словно луч преломился во множестве призм
и эеркал и принес издалека неожиданное отраженье. Вот так же и происходило наше
общение. Впечатления были общие, но мы сами, как призмы, преломляли их
по-своему.
Когда у Леры начинались сложности в семейной жизни,
она перебиралась к маме, прихватив кофемолку. Так и курсировала туда – сюда.
Старенькая кофемолка, включенная в сеть, гремела и подпрыгивала. А Лера
сказала:
– Моя поджелудочная железа кричит: «Сейчас меня снова обольют кофе!»
Потом я с удивлением обнаружила следы все этого в
своем тексте:
Ожог
Коричневый
Будда в стеклянном столбе
улыбается прямо в сердце тебе.
Бездна,
бархат,
базука,
бизоны,
бум-бум-бум.
Утренний душа шум
она спешила сменить
на шелест бразильских зерен.
Ты видел –
кофейный
монстр,
целовал ее в губы, горло
и всю изнутри.
Трижды блюдце перевернулось,
разломилось на две луны,
когда она улетала в форточку
верхом на кофейной мельнице
по ночному смеясь.
Ты не
умер,
просто прошел языком по линии жизни,
напрочь сожженной
на полигоне ладони.
В середине 80-х мы часто смотрели спектакль по пьесе
Ионеско «Стулья». Его ставил и играл актер Зайцев на разных площадках по всей
Москве. Билеты распространялись через друзей и знакомых. Периодически
кто-нибудь звонил и спрашивал: «Хотите посмотреть «Стулья» Ионеско?» Мы всегда
хотели и всей компанией ехали в очередной клуб или Дворец культуры на очередную
окраину. Спектакль шел без всяких декораций, на сцене ни одного стула, актеров
двое: Зайцев и его партнерша. Хотя нет, в самом финале появлялся еще один
актер. Но возникало ощущение, что на сцене полно народу, а стульями забито
абсолютно все пространство зала. В результате у Кости возникла поэма «Венский
стул». А на Галиных картинах стулья стали жить своей таинственной жизнью,
устраиваясь по-своему и умножаясь-размножаясь
только им известным способом. Короче, стулья стали членами семьи,
реагируя скрипом и потрескиваниями на слова и эмоции сидящих на них людей.
Самые чувствительные иногда не выдерживали. Однажды художник Дима Шевионков,
сидя посреди комнаты, как-то очень уж язвительно пошутил. Стул тут же
распластался под ним, и Дима оказался лежащим на полу, как бы на носилках.
Второй случай был еще более выразительный.
Мы устроили у себя на Артековской домашнюю презентацию книги «Поэтический
космос». Среди гостей был писатель Юрий Мамлеев. Журчал общий нейтральный
разговор, и как-то прорезалась тема Израиля, тогда все еще экзотическая. Вдруг
на слове «Магендовид» раздался страшный треск – Мамлеев приземлился на пол, а
по всей комнате разлетелись обломки складного стула.
В огромной бывшей коммуналке художницы Гали
Мальцевой мы всегда во что-нибудь играли. Однажды в шекспировского «Короля Лира». Студент
Щукинского училища Юра Мельницкий был режиссером. Его коронная фраза – «разойдитесь по углам!» – надолго застряла
в нашем лексиконе. Корделию изображал художник Андрюша Бондаренко. Наряженный в
свадебное платье Гали, он старательно подметал веником пол, не обращая внимания
на режиссерские вопли. Я предпочла быть сразу двумя вредными сестрами и шныряла по комнате в
детской деревянной повозке на колесиках, возмущая режиссера непредсказуемостью
поворотов. Костя – король Лир – сидел в кресле у камина и умирал со смеху. Это
был самый веселый король Лир на свете. Посреди комнаты стояла стремянка –
единственная декорация. Андрюша-маленький, Галин десятилетний сын, напялил
засаленный пиджак и помятую шляпу и под шумок взгромоздился на верхнюю
ступеньку. Там он раскрыл тетрадь и начал читать «лекцию», не обращая внимания
на шум. Не знаю, где он мог слышать такую лекцию, но это был один к одному
лектор общества «Знание»! Та же кривоватая поза, тот же остекленелый взгляд, та
же нудная, усыпляющая интонация. Да и смысл был тот же, то есть никакого. На
некоторое время наступила тишина. Все ошеломленно слушали. А потом зашикали,
завопили, затопали и согнали довольного Андрюшу с лестницы. В финале художник
Юра Косаговский облился соком, и Галя дала ему сухую рубашку, но без пуговиц.
«Юра, какой у тебя замечательный пупок!» – воскликнула Лера. Юра, находившийся
в паузе между двумя женитьбами, понял это, как призыв, и принялся гоняться за Лерой по комнате. Лера
убегала, приговаривая: «Юра, успокойся, успокойся!» Наверное, в результате
всего этого однажды появился мой текст «Король лир».
Король лир
(Музыкальная шкатулка)
Король
Я – король лир.
Королевство лир – мой мир.
У меня три дочери-лиры:
Лора, Лара, Лера.
Когда молчат,
они голы,
мелодия – платье их,
одевает мелодия тело.
Лиры – Лора, Лара,
Лера – лира.
Первый рыцарь
Лир король, отдай мне Лару.
Горло Лары – клад,
в нем клавишный лад,
в нем даль рыданий,
в нем ларго смеха,
Лара – ларь ладана.
Кларнета!
Второй рыцарь
Лору мне, Лору, король,
королевну оленей.
Кровь моя бродит
и бредит лишь Лорой.
Лорою я обескровлен,
кров мой разломан,
ором колонн оглушен.
Лору мне, Лору!
Третий рыцарь
Лера лезвия резвей,
розовее резеды.
Лера – времени реле,
мне отмеривает жизнь.
Лера – лес заповедный,
ребенок речного плеска.
Лера – клевер и клен,
Лера – ревность.
Я – Леры орел.
Лиры
Слушайте, рыцари лир!
Друг в друга играя,
друг друга ревнуя,
мы круг свой замкнули
скрипичным ключом.
Придите к нам,
нами играйте,
войдите в наш круг
и разбейте
лады
ради любви.
Рыцари.
Три рыцаря, три лиры –
два трио.
Упругое эхо
скачет орехом
в горле звенящей подруги.
Вместим ли друг друга?
В уключинах меч мой
скрипит
о моей триединой невесте.
Вместе, вместе
лиры – Лора, Лара,
Лера – лира.

Графика Дмитрия Шевионкова
Хотя Лера имеет слабость к гитаропоющим бардам, сама
она, конечно, не гитара, а лира. Гитару берет, кто попало, играет, как попало и
где угодно. А лира – это нечто загадочное, редкое, тонкое. Если верить
справочнику, то лира – «один из древнейших типов музыкальных щипковых
инструментов, струны которого натягиваются параллельно резонансному корпусу». Непонятно,
но красиво. Вот так Лера щиплет свои струны – слова, и возникает вселенная из
мыслей и чувств, которая резонирует с любым, кто не прикован намертво к решетке
житейского пространства и времени.
А весь наш «каминный период» сосредоточился для меня
в одной, совершенно четкой строке: «Пламя живет в глазах, глядящих на пламя».
Именно в этот период выскочил, как чертик из
коробки, «Петрушка-гомункулус». Студент Литинститута Володя Миодушевский,
драматург и кукольник, работал тогда в кукольном театре Уфы. Ему так
понравилась эта пьеса, что он решил поставить ее у себя в театре. Изготовил
кукол и стал потихоньку репетировать. Но вскоре об этом проведало начальство и
грозно спросило: «Вы, говорят,
подпольный спектакль затеяли. Что это еще за
Хамункулюс?» Но спектакль
все-таки состоялся. И, конечно, в квартире у Гали.
Тогда же начала сама собой образовываться суперпоэма
«Свалка», а потом возникли Палиндромические словари, зеркальная художница Анна
Реттер, поэтическое исследование «Цветные шахматы». Варианты игры были
опробованы нами в писательском Доме творчества в Ялте, в безалкогольном баре
(это был 85-й год), где канарейки насвистывали мелодию из «Пинк Флойда», а мы
пили кофе и горячий шоколад. Ялтинский поэт Сережа Новиков приносил нам в
толстом портфеле крымские вина. …И еще множество текстов, которые потом
сложились в мою книгу «Игр рай». Это и был наш игр рай, из которого вылетел на
прозрачных крыльях ДООС – Добровольное общество охраны стрекоз.
Первое поэтическое выступления ДООСа состоялось в
Манеже, на одной из выставок. Назвать нашу группу этой строкой из стихотворения
Константина Кедрова пришло в голову поэтессе Людмиле Ходынской.
ЗОЛА КРЕЗА
Об Анне Реттер мы впервые узнали из
русско-английской энциклопедии «Зеркала в живописи»:
АННА
РЕТТЕР – худож. рус. происхож.,
живописец, график; работы подписывает также псевдонимом “Агния-Инга”. Составной
частью произведений, подобно иероглифам в изобр. иск-тве Дальнего Востока,
являются палиндромы на рус. яз. Наиболее крупная коллекция работ представлена в
галерее “Герц-Арт”, Москва, 1991, Издатели не располагают достоверными
сведениями о личной жизни художницы, однако существует предположение, что А.Р.
– коллективный псевдоним группы художников.
Дополнением может послужить заметка в еженедельнике
“МегАРТполис”, известном сенсационными, не всегда достоверными сообщениями:
«Бесспорным
лидером зрительского интереса на вернисаже в галерее «Герц-арт» оказалась
работа Анны Реттер «Рыбачки». Сначала вы видите мечтательную черноволосую
девушку в лодке. Тонкой рукой она неуверенно поднимает острогу. В небе над
водой огромная звездная Рыба. Вторая Рыба – отражение в воде. Внизу палиндром:
«Алина рыбу бы ранила». И вдруг картина меняется: мощная белокурая дева
решительно направляет острогу к небу.
Иначе читается и надпись: «А Лиза
рыбу бы разила». Забавно было видеть,
как наша, обычно столь скептическая публика бегает вдоль картины с криками:
«Лиза!» – «Алина!» – «Есть Лиза..!» – «Нету Алины!..» Сама художница, говорят, на выставке
присутствовала, хотя никто не может сказать этого определенно. Некоторые
утверждают, что иногда ее отражение видели в зеркалах. Одному журналисту она
даже сказала, что в своем творчестве придерживается принципов зеркаль-психологии».
За всем этим стоит определенная реальность. Так
называемая зеркаль-психология сформировалась в недрах отечественной науки в
начале века. Эта группа ученых нашла впоследствии приют среди генетиков и
вместе с ними в 30-х годах подверглась гонениям по обвинению в идеализме и
поповщине.
И действительно, аксиомой для зеркаль-психологов
было представление о возникновение мира по библейскому варианту. В сознании абсолютного большинства людей начала
века данная модель не имела альтернативы.
Если сознательно человек со временем начинал думать иначе,
подсознательно он продолжал воспринимать мир по
изначальным, детским представлениям.
Отсюда главный вопрос: когда в
мире появилось зеркало, то есть отражение? И ответ: когда Бог создал человека,
то есть зрение. Сам Бог не нуждался в зрение, чтобы видеть. Он также обладал и
отражением, но был с ним неразделен. Следовательно, первый акт Творения – это
разделение Творца и его Отражения.
Вот здесь мы и обратимся к творчеству Анны Реттер, к
триптиху «Встреча» с палиндромом: «Я и ты – балет тела бытия».
Левая часть триптиха – нагромождение разноцветных
туч, бесформенных световых масс. Они организуются – стягиваются в радужное
кольцо, где возникает перетяжка, как в клетке, начавшей делиться. В правой
части – зеркало и две радужные фигуры, летящие сквозь него, прочь друг от друга.
В них мы узнаем Бога и Адама с фрески Микеланджело. Бог увидел себя в человеке,
человек увидел себя в боге, но это встреча – прощание. В середине распятие. В нем человек соединился
с Богом – зеркало и отражение снова вместе.
Как видим, полной симметрии «образа» и «подобия»
здесь нет. Это соответствует утверждению зеркаль-психологии о не полной
идентичности предмета и отражения. Как перевод с одного языка на другой имеет
неизбежные расхождения с оригиналом, так и любое отражение энного порядка может
совершенно измениться относительно первоначального облика.
Второй всплеск активности зеркаль-психологии
последовал в конце 40-х. Распространившись среди кибернетиков, она исчезла из
поля зрения во время очередных гонений.
Любое открытие зеркаль-психологов всегда вызывало
бурную реакцию. Их обвиняли, например, в отрицании роли общества и коллектива,
а также в снижении общей производительности труда в стране и даже падении
рождаемости.
Дело вот в чем. Согласно одному из положений
зеркаль-психологии человек воспринимает свое первое отражение как самого себя.
Но с отражением следующего порядка (отражением отражения) отчуждение
возрастает. Надо уже делать усилие, чтобы скоординировать свои движения с
движениями двойника. Таким образом, чем больше отражений, чем труднее контакт с
самим собой, тем полнее восприятие – ощущение в одном себе целой человеческой
общности.
Одно из утверждений вызвало прямо-таки истерику.
Зеркаль-психологи заявили, что цель науки – сознательное уничтожение жизни.
Родоначальником этого процесса они назвали Архимеда. По их мнению,
высказывание: «Дайте мне точку опоры, и
я переверну мир», – следовало понимать буквально. Во всяком случае, искал эту
точку в зеркалах... и корабли сгорели.
Здесь мы опять обратимся к произведению Анны Реттер.
Это объект «Зеркала Архимеда» с палиндромом: «Ад – ром Архимеду, Бах эха; будем
и храм – орда».
Это сооружение из стеклянных и металлических трубок,
воронок, блестящих искривленных поверхностей, красных и черных зеркал, золотых
черепов с хрустальными глазами. Объект снабжен акустическим устройством, оно
превращает слова и дыхание рядом
стоящего зрителя в жуткий вой, стон, хрип. Кроме того, объект периодически выбрасывает
нестерпимо яркий луч, травмируя зрение. Мало кто решается подходить к нему
второй раз.
Мифологию зеркаль-психологи тоже рассматривали под
особым углом. Их любимое предание гласило, что первая пирамида в Египте была
зеркальной. Утверждалось, что она и сейчас находится там же и все миражи в мире
происходят от нее. А с вершины можно увидеть все зеркала на свете –
зеркальный лабиринт. Если поднимешься на пирамиду, пройдешь по лабиринту и
вернешься к себе – станешь бессмертным. Объясняется это тем, что отражение
лишает предмет материальной сущности, а потому с ним возможны изменения
нематериального порядка.
Именно об этом работа Анны Реттер «Ученица Пифагора»
– довольно длинный свиток, имитирующий папирус, с палиндромом «Вел ее Лев».
Вначале перед нами девушка, склонившаяся над
чертежами. Далее мы видим ее выходящей из дома в сопровождении темнокожего
слуги. Затем они же, выезжающие из городских ворот. Потом песчаная буря,
последняя капля воды, оазис, оказавшийся миражом, спасительный караван. Ночью
при лунном свете девушка производит вычисления и, пустившись в путь, утром
обнаруживает следы льва. Они странным образом совпадают с направлением ее
движения. Путники следуют к цели в смущении и страхе. И, наконец, девушка стоит
как бы на краю света: перед ней и внизу, и вверху небо. Это и есть зеркальная
пирамида. У подножия ожидает бессмертная
жрица Терифирет, возле ее ног возлежит лев. Тут только девушка понимает, что
это и есть день осеннего равноденствия между Львом и Девой (там он находился во
времена Древнего Египта). Теперь жрица должна провести ее по зеркальному
лабиринту. Но, минуя одно из зеркал, девушка засмотрелась на красивого юношу и
чуть-чуть задержалась. Увидев ее, юноша от неожиданности выронил зеркало. Оно
разбилось. Девушка очнулась в незнакомой
комнате, а над ней склонился юноша из того самого зеркала – сосед, давно
влюбленный в ученую геометристку. Она же, занятая вычислениями, ничего не
замечала. Дверь в бессмертие закрылась, но зато девушка обрела счастье в земной
жизни. Правда, говорят, что с тех пор она видит мир отраженным – перевернутым.
Так заканчивается свиток. Но предание гласит: если
вам, когда вы смотритесь в зеркало, вдруг покажется, будто бы там что-то
промелькнуло, знайте: это Терифирет снова ведет кого-то по зеркальному
лабиринту.
Об астрологии у зеркаль-психологов тоже было свое,
весьма своеобразное представление. Они особо выделяли те созвездия Зодиака,
где, по их мнению, подразумевалось отражение. Это водяные знаки – Рыбы, Рак,
Скорпион, а, кроме того, Водолей и Близнецы. С традиционным изображением
последнего они были решительно не согласны и рисовали его Нарциссом, влюбленным
в свое отражение. О Рыбах же говорили:
одна в небе, а другая – отражение в воде (вспомним картину Анны Реттер
«Рыбачки»). Водолей же представлялся им облаком или тучей.
Большие надежды зеркаль-психологи возлагали на
архитектуру. Один из них – архитектор и художник Игнат Танги (скорее всего,
палиндромический псевдоним) – взялся выстроить дом «из архитектурных наваждений
и магии зеркал» (так значилось в проекте),
чтобы «познать полноту пространства-времени».
Проект осуществили. Архитектор вошел в дом, вскоре
за ним последовали сотрудники, но сразу растеряли друг друга, потому что не
могли отличить зеркальных дверей и коридоров от настоящих, долго блуждали и
неожиданно все встретились в одной комнате. Архитектор сидел в кресле перед
камином, которого в комнате не было, и смотрел в зеркало, в котором не
отражался. Зато в нем отражались бронзовый светильник в виде девушки с факелом
и китайская фарфоровая ваза, которых тоже не было в комнате. Архитектор утверждал,
что на самом деле это две реальные девушки, которых воплотила магия зеркал.
Встретив их в этой комнате, он познал полноту времени и пространства.
Впоследствии Игнат Танги пытался описать свое
зеркальное приключение. Там была девушка из бронзы, которая прикрывала ладонью
огонь, а «между пальцев светилось золото, как кровь в живой руке». И другая –
«изваянная вазой, влажная внутри». Еще были бокалы, «такие большие и
прозрачные, что их выдавали только блики света на выпуклых боках». И вино, в
котором «вспыхивал золотой лев», и прочее тому подобное, обычный романтический
набор.
Единственное, что здесь привлекает внимание, это
имена девушек: Агния и Инга (вспомним псевдоним-палиндром Анны Реттер –
Агния-Инга). К тому же имя Игнат - «рожденный огнем» – созвучно имени Агния,
происходящее от «агнец» и восходящее к «Агни» (огонь). Не исключено, что Игнат,
испытав среди зеркал психологическую инверсию, ощутил себя огненной женщиной.
Но поскольку огонь – мужское начало, то женская суть явилась ему в виде девушки
Инги – вазы, наполненной водой (Инга – перевернутое «Агни»). Таким образом, он
соединил в себе Инь и Ян, действительно познав полноту бытия.
Но вообще зеркаль-психологи считали художников
людьми ограниченными, Те, по их мнению, не использовали данный им от природы
дар отражения. Идеалом у них считался придуманный Оскаром Уайльдом Бэзил
Хэллуорд, который нарисовал портрет Дориана Грея. Они также активно
поддерживали версию о том, что Леонардо да Винчи изобразил в Монне Лизе самого
себя, пройдя через серию отражений.
Случился в их истории существенный прокол, который
всячески замалчивали. Это знаменитая история с пустым зеркалом.
Проводился эксперимент. Добровольца запирали в
комнате, предварительно внушив под гипнозом, что его самого в комнате нет.
Через микрофон спрашивали, что видно в зеркале. Ответы были однотипны: «В
зеркале я вижу стены, дверь...» Или: «Я вижу комнату, в которой меня нет». Так
продолжалось, пока один из испытуемых не заявил; «Зеркала здесь нет, я вижу
только «Черный квадрат» Малевича».
Но Малевич был под запретом, а зеркаль-психология в
расцвете. Поэтому эксперимент признали бесперспективным и заменяли обязательной
для всех сотрудников ежедневной медитацией перед зеркалом. Текст утвердили
следующий:
«Я запираю дверь, задергиваю шторы, встаю перед
зеркалом, закрываю глаза. Передо мной то, чего никто никогда не видел – пустое
зеркало. Открыть глаза!»
Предполагалось, что за долю секунды тайна может
приоткрыться. Но вскоре у сотрудников начались нервные срывы. За долю секунды
они успевали увидеть нечто совсем неожиданное: собственный череп, обратную
сторону луны, себя в материнской утробе и тому подобное. Так что когда
разрешили Малевича, зеркаль-психология сама превратилась в предание. Говорят,
что она по-прежнему существует, но основательно засекречена.
В свое время зеркаль-психологи утверждали, что нет
таких научных истин, которые не были бы освоены современным искусством. Анна
Реттер, вводя в свои произведения реминисценции из работ художников разных
эпох, подчеркивает, что искусству эти истины известны изначально.
Рассмотрим картину «Полнолуние».
Перед нами море. Оно слегка волнуется. По берегу
бегают мужчины и женщины с зеркалами в руках, ловят луну и перебрасывают ее
отражение друг другу. Палиндром гласит: «Волн улыбка как бы лун лов». На
переднем плане три фигуры, Их расположение и позы напоминают ангелов «Троицы»
Рублева. Перед ними зеркало, в зеркале, как чаша, луна. Группа освещена лунным
светом сверху (самой луны на картине нет) и отраженным – из зеркала. В них
глубокая печаль: луна в зеркале так же недостижима, как и в небе, хотя ее можно
коснуться рукой.
Упомяну еще одну работу Анны Реттер: зеркало и на
нем палиндром – «А зеркало – зола Креза». Одно время это было чем-то вроде девиза
зеркаль-психологов. Крез – богатейший человек античного мира, символ земного
успеха и благополучия. Но зеркала, бесконечно умножая его богатства, словно
смеются над миром материальным, ограниченным в своих возможностях.
Закончив на это свое сообщение, хочу предложить
библиографию литературных произведений, где зеркала или отражения являются
составной частью сюжета или всей образной системы. Список это далеко не полон,
но каждый может его продолжить по собственному усмотрению.
В.Брюсов «В зеркале»
М.Гарднер «Этот левый, правый мир»
Г.Гессе «Степной волк»
Э.Т.Гофман «История о пропавшем отражении»
С.Есенин «Черный человек»
В.Жуковский «Светлана»
С.Кирсанов «Зеркала»
Конст. Кедров «Зеркало».
Л.Кэрролл «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса»
Г.Майринк «Ангел Западного окна»
В.Набоков «Бледное пламя» (пер. С.Ильина),
«Приглашение на казнь» (о нетках)
В.Нарбикова «Ад как да»
М.Панич «Хазарский словарь»
Г.Петрович «Атлас, составленный небом»
Олшеври «Вампиры»
А.Н.Толстой «Калиостро», «Гиперболоид инженера
Гарина»
Л.Толстой «Война и мир» (гадание Наташи)
О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»
Цао Сюэцинь «Сон в Красном тереме»
А.Чехов «Черный монах»
У.Эко «Имя Розы».
ЦВЕТНЫЕ ШАХМАТЫ
Сегодня мы знаем только один
вариант шахмат – черно-белые. Но когда-то шахматы были еще трехцветные и четырехцветные.
Трехцветная доска состояла
из черных, белых и серых клеток, а игра в целом отличалась от теперешней только
одной особенностью – так называемой «запретной клеткой». Она определялась с
помощью игральной кости и помечалась красной фишкой. Если фигура попадала на
эту клетку, игрок пропускал ход.
Даже в черно-белой игре известен
необычный вариант: черные фигуры на черных клетках, белые на белых. Но такая игра считалась разнополой, в нее мужчины
играли только с женщинами. Хотя фигуры переставлялись обычным способом,
возникали определенные сложности, отчего игра затягивалась на неопределенное
время. Говорят, ни одной партии не удалось довести до финала: мужчина и женщина
настолько сближались в процессе игры, что просто забывали ее закончить.
Четырехцветные у серьезных
игроков вообще шахматами не считались, но
имели невероятную популярность в ХVIII веке. Игра была чем-то средним
между шахматами, фантами и картами – фигуры четырех цветов на четырехцветной
доске. Играли в нее и вдвоем, но обычно
вчетвером: два кавалера против двух дам. Каждая «съеденная» фигура сопровождалась
загадкой или поцелуем, Так что если между партнерами возникало достаточно
сильное притяжение, игра просто превращаюсь в современную «бутылочку». Если же
отношения участников были напряженными, то игра могла принять даже печальный
оборот. Нередки были случаи, когда одна из дам бросала игру и убегала в слезах,
так как оба партнера начинали яростно «пожирать» исключительно фигуры ее
подруги. А для молодых людей матч мог закончиться дуэлью. Друг против друга
играли также супружеские пары. Зная легкомысленные нравы куртуазного века, мы
догадываемся, что проходили они весело и заканчивались мирно и к всеобщему удовольствию.
Сами доски и фигуры были
необыкновенно красивы. Модники и модницы имели наборы для игры, расписанные
собственноручно. Дамам нравились цветы: красная, белая, розовая и чайная розы
или жасмин, левкой, нарцисс и тюльпан, Кавалеры предпочитали символы и цвета
четырех стихий: земля (черный), воздух (белый), вода (синий) и огонь (красный).
Нередко доски и фигуры заказывались ювелирам, которые делали их из драгоценных
камней и металлов. Когда же мода на цветные шахматы прошла, наследники переделали их
в украшения.
Прежде чем начать игру,
выбирали доску, для чего бросали жребий. Если игра ладилась и заканчивалась
быстро, игроки переходили ко второй доске, третьей и четвертой. Начинать игру в
пятый раз считалось неприличным, как и играть на деньги. В игральный набор входила также маска, так
как игра была особенно популярна во время карнавалов. Партнеры могли обменяться
досками, чтобы потом узнать друг друга. Известен случай, когда одну такую юную
пару разлучили сразу после карнавала.
Девушку выдали замуж, и она много лет хранила доску, тайно вздыхая о неведомом
партнере. И вдруг однажды доска случайно попала в руки ее мужа. Побледнев, он
спросил: «Откуда это у тебя?» Бедная женщина заплакала и рассказала об этом
давнем происшествии. Не говоря ни слова, муж вышел и вернулся с той самой шахматной
доской, что она подарила неизвестному молодому человеку. Мало того, он принес
еще и маску, в которой резвился на карнавале
в ту ночь! Оказалось, что и он продолжал вспоминать ту чудесную игру и
исчезнувшую партнершу.
К началу Х1Х века
цветные шахматы почти забылись, Довольно долго они существовали в
монастырях. Естественно, что о поцелуях не было и речи, а загадки были
исключительно нравственного содержания. Например, угадать имя святого по его
атрибутам. Говорят, Грегор Мендель открыл генетический код именно за игрой в
цветные шахматы.
В начале ХХ века возник
вариант игры втроем. Но с началом Первой мировой войны и эта последняя искра
угасла окончательно.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
МИХАИЛ ДЗЮБЕНКО
Стрекозы, охранники и медведь в кедровом лесу
(Фрагменты книги, которая
никогда не будет написана)
Homo homini
anizoptera est.
Женбла, кот
сепотил йес рим
В оге нитумы
коворые.
Дорфе Чевтют,
Налее Бацюка
все равно тебя
схватят со всех сторон
во все стороны
разнесут растащат
кто руку кто
ногу кто голову кто глазницу
Тинстанкон
Вордек
Никакого ДООСа я не знаю. Первый раз слышу. Я знаю
Кедрова. И для меня 2004 год – тоже в каком-то смысле юбилейный, но в другом:
20 лет, как мы познакомились. 20 лет моей новой жизни. Произошло это в Доме творчества писателей «Ирпень» под Киевом. В том
самом Ирпене, про который Пастернак писал: «Ирпень – это память о людях, о
лете…»
Студент филфака МГУ, окончивший первый курс, я
бредил тогда Пастернаком, написал по нему первую курсовую работу. Когда мой
отец, Александр Григорьевич Коган, исследователь военной литературы, объявил
мне, куда мы едем, я ожидал этого как чуда: в месте, где побывал Пастернак, не
могло не произойти чудес.
Дом творчества
состоял из двухэтажных корпусов с несколькими номерами. Мы с отцом жили на
втором этаже одного из таких корпусов, а на первом, прямо рядом с лестницей,
жила пара: он – бородатый, с умным лицом; она – с огненным насмешливым
взглядом, черными распущенными волосами. Святой и ведьма. Что-то в них было
нетипичное. Но я, юный интроверт, не сразу и обратил на них внимание. А потом –
так, отметил про себя…
Однажды
вечером отец после ужина задержался дольше обычного; пришел в номер, когда уже
стемнело.
– Где ходил? – спросил я с любезной
любознательностью пыточных дел мастера.
– Стояли с Кедровым, разговаривали о Федорове.
Две незнакомых фамилии сразу! А я-то был уверен, что
знаю словарный запас своего отца вдоль и поперек: Гудзенко – Лазарев – Шубин –
Алтаузен – Кондратович – Кондратьев – Пузиков – Сарнов… Да, еще Симонов и
Твардовский.
– А кто такой Кедров?
– Живет под нами с женой, такой бородатый.
– А кто он? Что он пишет?
– Он преподаватель Литинститута. Обещал дать
почитать свои статьи.
«Преподаватель Литинститута»… Кислая рекомендация.
– А кто такой Федоров?
– Был такой философ Николай Федоров в начале века.
Проповедовал воскрешение мертвых.
– В каком смысле?
В прямом. Что всех мертвых надо воскресить.
Подумать
только! Мой отец, убежденный атеист, материалист, коммунист со стажем, два часа
разговаривал про воскрешение мертвых?! Да я таких слов от него отродясь не
слышал! И что, они теперь все в Литинституте об этом пишут? Что же это за
Кедров такой, который сподвиг моего отца на подобный разговор?
– Как его зовут?
– Константин Александрович.
– Если он даст тебе статьи, дай мне тоже почитать.
Через день в моих руках были две статьи – «Звездный
сад» (о Блоке) и «Восстановление погибшего человека» (о Достоевском). Жизнь
перевернулась.
Что было до этого? В некоторых отношениях
образцовая, а в других – совсем провальная семья. Размеренное, благополучное,
но скучноватое, задавленное школой детство и отрочество. Русская и зарубежная
классика, советская литература. Антисоветские разговоры (как, наверное, в
каждой второй интеллигентской семье). Классическая музыка. Воспитание хорошего,
традиционного вкуса.
Детство я провел хорошо
а юность еще лучше
Несколько запрещенных книг. Помню июнь 1981 года.
Мне четырнадцать лет. Отец на съезде писателей. Там ему на пару дней дали
ксерокс книги Ольги Ивинской «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком», и
он спешит поделиться ею с мамой. Меня отправляют в центр на встречу с отцом.
Оба родителя предупреждают: сверток не открывать. Разумеется, войдя в вагон
метро, я тут же разворачиваю сверток, даже не осознавая, чем мне это грозит, –
и не могу оторваться. Непонятный, совершенно дремучий Пастернак, которого я видел
всего несколько стихотворений и отскакивал от них как ошпаренный, – начинает
мне открываться! Хорошо, что мама задержалась на работе. Я проглатываю книгу за
несколько часов, выписываю из нее все, что задело (листов десять получилось), и
иду гулять с собакой. И думаю о прочитанном. Впервые в жизни – думаю о смысле
искусства! В чем же он? Ну, конечно, не в том, что говорят марксисты, потому
что у них очень скучно; но в чем же? И, уже возвращаясь домой, подходя к дому,
я поражен внезапной мыслью: искусство – это Вечность, это образ Вечности.
Я помню то место, где остановился как вкопанный.
Таких слов, как «Вечность», до тех пор не было в моем словаре. А тут вдруг
залетело, как шаровая молния, и осталось навсегда.
Но – какая она, Вечность? Значительная часть
философии и тем более богословие от меня закрыты, да мне и в голову не приходит
искать в них ответа: я все-таки воспитан в советских традициях. Я ищу его в
том, что мне ближе, – в филологии и через филологию.
Все интересно юному филфаковцу, но я пытаюсь понять,
что же стоит за народными обрядами и фольклорными «общими местами» – неужели
какие-то «трудовые процессы»? за «мифологической школой» – неужели наивные представления
о небесных телах? за «бродячими сюжетами» – неужели случайные миграции? за
пропповской алфавитом волшебной сказки – неужели только внешние структурные
сходства? А рыцарские ритуалы? А законы языка? Неужели это всего лишь функции
от исторических событий? Но ведь признать это значит сдаться бессмысленности
мироздания: все преходяще, ничего вечного нет. Университетская библиотека
открыла целый мир, но он оказался похожим на лабиринт. Я блуждал в нем и все
больше утверждался в релятивизме. Мне стало тепло, пыльно и скучно. Видя мои
странные поиски, один школьный приятель (он учится на юрфаке) советует
заглянуть в Хлебникова. Я заглядываю – и ничего не понимаю. Это почище
Пастернака!
И вот случайная встреча. Читаю статьи Кедрова – и
словно припоминаю что-то давно забытое. Как будто со знакомых вещей снимают
патину, и они проступают в своей изначальной, первозданной красоте. «Когда ты загнан и забит…» Ведь я читал эти
строки блоковской поэмы «Возмездие», но мне и в голову не приходило понять их
буквально: задрать голову и посмотреть на небо. И тем более соотнести блоковский
«Балаганчик» с ближневосточными мифами, а с ними – романы Достоевского:
«Невеста-смерть – чрезвычайно распространенный фольклорный образ. <…>
Таков закон мистериального действа: все превращается в свою противоположность.
Это мир наизнанку. Здесь похороны – свадьба, а свадьба – похороны. Здесь смерть
означает воскресение».
Небо вообще выпало из нашей культуры, полностью. Я
пока мало что понимаю во всем этом, но чувствую: это – настоящее. Это то, чего
я искал, но сам, конечно, никогда бы не нашел. Это – совершенно новое,
неизмеримое измерение. Это метакод. И чисто по-человечески мне интересны эти
люди, но как вести себя с ними, я пока не знаю. До сих пор взрослые были для
меня учителями – и я смотрел на них с почтительного расстояния, снизу вверх,
выслушивал умные (или не очень) вещи и отходил в сторонку, в свою жизнь. Здесь
мне, конечно, тоже многому предстоит учиться (потом упомянутый приятель будет
звать Кедрова «твой гуру»), но нет отчуждения; мне словно бы предлагают учиться
и одновременно дружить. Разве можно это совместить? Отец начинает ревновать.
«Твой Кедров», – говорит он мне к концу нашей поездки, словно забыв, что сам же
нас и познакомил.
Оказывается, они еще и пишут стихи. Статьи меня
покорили безусловно (хотя бóльшую их часть мне еще предстояло прочесть),
но вот не будет ли разочарования со стихами?
Конец августа. Мы прощаемся с Ирпенем. Горит костер,
и впервые я слышу эти строки Елены Кацюбы:
Мы среди ОГНЯ
мы – душа ОГНЯ
каждый человек – ПЛАМЕНИ язык
Ну, насчет каждого не уверен, а эти – точно. И я
хочу быть как они.
Так Ирпень вошел в историю литературы дважды:
знакомством Пастернака с Зинаидой Николаевной Нейгауз и нашим знакомством с
Кедровым.
ведь ласточки
это летающие мощи отшельника
ведь отшельники
это ласточки
увеличенные за счет остановленного полета
(Прошу рассматривать эти поэтические образы не как
преднамеренное оскорбление чьих-либо религиозных чувств, а как метафоры.)
Это написано Кедровым тогда же, вскоре после
посещения Киево-Печерской Лавры.
Осень 1984 года. Артековская улица, дом 8, квартира
2. Я бываю здесь все чаще и чаще, слушаю разговоры, беру статьи. Статей к тому
времени напечатано немного. Однажды получаю приличную (страниц в сорок –
пятьдесят) пачку папиросной бумаги; оригинал статьи, обнародованной на идиш в
журнале «Советиш Геймланд». «Обретение космоса».
Как я жалею о том, что у меня не осталось хотя бы
одного экземпляра этой статьи, которую я перепечатал на машинке дважды по пять
экземпляров и почти всю раздал знакомым (конечно же, напрасно: «Первый признак
умного человека знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера…» А может, не
напрасно. Одна моя бедная однокурсница, которой я всучил этот труд, везде
носила его с собой и все время спрашивала меня: «Миша, ну как же мы выворачиваемся?»).
Как я жалею, что несколькими годами спустя поддался на уговоры автора, которому
для подготовки книги «Поэтический космос» нужен был хотя бы один экземпляр его
же статьи (видать, тоже все раздал)! Ну мог ли я отказать Кедрову?! А надо
было! И тогда все следующие поколения российских людей смогли бы насладиться
первозданным профетическим пафосом этой – нет, не статьи, а Откровения. Ибо то,
что получилось при переработке для «Поэтического космоса» и еще более поздней
«Метаметафоры», на мой взгляд, вяловато. А так придется всем учить идиш… Но,
может быть, это не случайно; может быть, Моисей тоже получил скрижали на
русском языке, и лишь при публикации их перевели на древнееврейский?
«Обретение космоса» поразило меня так, как, пожалуй,
не поражал ни один текст ни до, ни после. Стройное, внятное, поэтичное,
убедительное доказательство единства человека и космоса – единства не
метафорического, а буквального (впрочем, к тому времени я уже понял, что многие
метафоры надо понимать буквально), причем взятого «поверх барьеров» всех наук.
Непосредственная, живая связь меня со Вселенной через ВЫВОРАЧИВАНИЕ была
явлена, открыта. Это был категорический императив, требовалось ему
соответствовать. Единственное, что смущало меня в тексте (да и теперь кажется
неудачным), – это конкретные рекомендации, как ощутить свое единство со
Вселенной (почувствуйте свой пупок, спроецируйте его на Солнце и пр.). Немножко
это снижало планку, напоминало не то йогу в популярном изложении, не то дыхательную
гимнастику. Я же был уверен в том, что искусственно этой космической переориентации
вызвать нельзя, к ней можно только готовиться, но происходит она у каждого
индивидуально, и готовить к ней можно только стихами.
Конечно, строгая академическая наука нашла бы, в чем
упрекнуть Кедрова (да она его долгое время и не признавала; едва ли в полной
мере признаёт и сейчас – разве как поэта, объект исследования, но не как
субъекта), но меня это не волновало. И еще незабываемое, драгоценное, на всю
жизнь оставшееся: слайд-программы Кедрова. В домашних условиях, на небольшом
экране он (возможно, под какую-то музыку, но точно не помню) показывает слайды
своих рисунков и картин, одновременно читая стихи. Это дает мне больше, чем
любые отвлеченные разговоры.
и когда эти камни
эти щемящие камни
отпадая от тела
упадут в пустоту
ты пойдешь по полю
наполненному прохладой
отрывая от земли букет своих тел.
Теперь понятно, чтó такое переориентация! Я
прошу у Кедрова его стихи, получаю пачку папиросной бумаги. Но вот сила синэстезии:
сами по себе, отдельно от слайдов, они мне кажутся… пресноватыми, что ли. Да я
вообще и не воспринимаю их как стихи: долгое время вижу в них лишь инструкции
по космической переориентации.
Оброненная фольга
в мертвом воздухе звенит
свой затейливый повтор
продолжает сладкий звук
Приходит в гости мой приятель; он уже наслышан о
моем увлечении. Я показываю ему папиросные листочки. Он бегло перелистывает их
и насмешливо: «Всего-то?» Это о самих стихах. У приятеля солидные, хотя по тем
временам и не одобряемые вкусы: он любит Бродского.
Говорят, для европейцев все китайцы (вариант:
монголы, вьетнамцы) на одно лицо – и наоборот. Такими китайцами первое время
были для меня гости К.А. Сначала, правда, он приглашал меня одного, видимо,
присматриваясь, подхожу ли я к его кругу. Потом, когда я привык к такому
отчасти интимному общению, стал воспринимать его как нечто удобное и обязательное,
рядом со мной стали появляться люди.
Однажды прихожу – на диване сидит кентавр, человек с
лицом быка: рельефные черты, жесткие кудри. Я тогда еще не читал стихотворения
«Корова»; лишь потом понял, что это –
автопортрет. Он смотрит на меня с озорным интересом, но ревниво. Я на него – с
благоговейным ужасом. Это Алексей Парщиков – один из троицы знаменитых
кедровских учеников (Парщиков – Еременко – Жданов, именно в такой, почти
иерархической последовательности), о которых я уже наслышан. Зато читал в
«Литературной учебе» поэму «Новогодние строчки» с предисловием Кедрова, в
котором впервые было сформулировано, что такое МЕТАМЕТАФОРА. Предисловие-то еще
как-то понял, но вот поэму… Через три года на студенческой конференции я буду
делать доклад об этой поэме. Тогда настанет мой черед быть непонятым.
Но Парщиков тогда, кажется, уже не принадлежал к
близким «китайцам»; гораздо чаще я вижу других. Вот рыжая, веселая – художница
Галя Мальцева. Сколько раз потом я и с Кедровыми, и один побываю в ее огромной
квартире на улице Грановского! Нередко я видел на Артековской высокого, худого,
длинноволосого заикающегося юношу с насмешливым и очень внимательным взглядом.
Однажды мы возвращались вместе. Это художник Андрей Бондаренко. Он жил недалеко
от Иностранки и как раз устраивался туда работать. Потом я заходил к нему в гости,
он показывал мне свою умную графику, выполненную в поразительной технике –
точно бактерии ползают под микроскопом, но сняты с космической высоты. Потом он
и его друг Дмитрий Шевионков в этой технике оформят первую стихотворную книгу
Кедрова.
От многих остались только лица: уехали, исчезли,
умерли… Мир Кедрова, как бытовой, так и поэтический, подобен разлетающейся
Вселенной: едва я привыкал к одному его облику, к одним обитателям, к одним
параметрам и приметам, как вдруг, не отменяя их, появлялись другие, совершенно
неожиданные.
К весне 1985 года («весна перестройки») я вроде бы
уже более или менее освоился в этом мире, более того – привык считать его
правильным, как вдруг…
Кедровы идут к какому-то художнику, я с ними.
Сретенский бульвар, высокий дом, мансарда. Просторная, но не слишком большая
мастерская. Это что, тоже искусство? Я такого еще не видел! Вся мастерская
перетянута веревками, на которых рядами висят бумажки с разными изречениями
каких-то вымышленных персонажй. Я хожу и удивляюсь: здесь и следа нет
космической переориентации! куда меня привели! Это скорее переориентация
социальная – в коммунальную квартиру, где я никогда не жил и не хочу (еще
предстояло!). Тоже космос, но отмеченный печатью не Рая, а Ада. А вот огромное…
как это сказать… нет, не полотно (я еще не знаю терминов современного
искусства) «График выноса мусорного ведра». А вот какие-то разговоры на кухне,
записанные каллиграфическим почерком на большом… какой же это материал? Но что
удивительно: в такой немыслимой концентрации, в такой идиотической упорядоченности
это коммунальное сумасшествие как бы раздвигается изнутри, и в просветы безумия
словно проглядывает высший смысл.
Потом Илья Кабаков (живой, лукавый, улыбчивый –
впрочем, и тогда между ним и нами чувствовалась дистанция) несколько часов,
почти до закрытия метро, показывал слайды работ московских
художников-концептуалистов. «Концептуализм» – это было новое для меня слово как
в переносном, так и в прямом смысле. Лишь спустя полтора-два года я стал более
или менее четко понимать, что такое концептуализм, и осознавать его как
противостоящее «нам», метаметафористам, направление в искусстве.
А на следующий день был коммунистический субботник в
честь дня рождения Ленина – по-моему, последний в моей жизни. Недалеко от МГУ
мы перетаскивали не то камни, не то песок якобы для благоустройства территории
– сначала с одного места на другое, а потом обратно. Я в полной мере чувствовал
себя персонажем Кабакова.
Июнь того же года. На кедровском диване – среднего
роста лысоватый брюнет с большим носом, глазами навыкате, легким одесским
акцентом, начальственным голосом и энергичной жестикуляцией. Он читает серию
коротких рассказов про Гугу. Гуга очень переживает, что у него сильно пахнут
носки. «Жениться надо, батенька, тогда носки не будут пахнуть», – замечает
Кедров. Геннадий Кацов смеется, слегка прищуривая глаза и показывая крепкие
зубы. У него американская улыбка.
Август. Мой день рождения и одновременно – первая
годовщина нашего знакомства. У К.А. стоят несколько литых крестов, он дарит мне
один из них: «Старообрядческий!» Через полтора года в квартире Гали Мальцевой
какой-то художник, узнав, что я филолог, будет с восторгом рассказывать мне о
посещении старообрядческого храма на Рогожском кладбище. Я что-то слышал об
этом месте, но никак не соотносил его с современностью. Живые старообрядцы?
Звучит как «живые неандертальцы», только гораздо интереснее. Надо будет побывать!
Что мне импонирует в «гуру», так это его свобода от
существующих общественно-литературных лагерей – и от западников, и от
славянофилов. Галерея крестов и складней, иконы, Библия, курсы по древнерусской
литературе и Достоевскому в Литинституте, борода – вот, казалось бы, и готов
портрет почвенника 70–80-х, адепта «исконно-посконности». К этому блюду
Циолковский с Федоровым и Хлебниковым в небольших дозах – как перец с солью. Но
рядом – Пикассо, Маяковский, Норберт Винер, двоюродный дед Кедрова Павел
Челищев, Андрей Белый… и кто только еще не бывал на Артековской!
Еще мало что изменилось, в основном были какие-то
ожидания… И осень–зима 1985–86 гг. в отношении стали прорывом. Мне кажется, первым таким событием, которое
показало, что перемены начинаются, стало столетие Хлебникова в октябре 1985
года, открывшее длинную череду столетних юбилеев деятелей Серебряного века. Для
нас это был личный праздник: мы считали Хлебникова своим, а себя – его. Кедров,
как сказали бы формалисты, литературно канонизировал Велимира в статье «Звездная
азбука Велимира Хлебникова». Отношение к нему мы проецировали на себя.
К юбилею вышло
несколько книг. Воспользовавшись одной из них как поводом, К.А. напечатал в
«Новом мире» статью-рецензию, которую редакция забавно озаглавила «Столетний
Хлебников». Это было событие вдвойне: о Хлебникове тогда писали мало, еще
меньше печатали Кедрова. Но самое главное: с этим праздником связано мое
воспоминание о первом легальном, официально разрешенном вечере Кедрова –
первом, разумеется, в моей жизни.
Не помню, где это было; не то в районе старого МГУ,
чуть ли не на одном из его факультетов, не то в Историко-архивном. Помню лишь:
мы целой командой движемся от павильона станции метро «Проспект Маркса» мимо
Музея Ленина, и Женя Даенин хорошо поставленным командирским голосом решительно
обращается к прохожим: «Выворачивайтесь в марше!» Прохожие отшатываются, но не
выворачиваются. Длинная аудитория, скучные столы из прессованных опилок. Это
еще не поэтический вечер – Кедров рассказывает только о Хлебникове. Но мы, посвященные,
знаем: на самом деле речь о космической переориентации, о метакоде,
метаметафоре и выворачивании.
Примерно в это же время – 90 лет Даниилу Хармсу.
Вечер в Музее Маяковского. С той поры, как его закрыли на реконструкцию в связи
со строительством третьей «лубяной избушки», я там ни разу и не был. Приходится
покрутиться по вечерним переулкам, пару раз ткнуться туда, куда попасть не хотелось
бы. Вечер длинный, в меру солидный, хотя и не засушенный. Ведет его Мариэтта
Чудакова. То, что Кедрова пригласили выступить, – факт его явного общественного
признания. На том вечере в Музее Маяковского я, привыкший видеть в обэриутах
абсурд и озорство, услышал от Кедрова нечто поразительное. В миниатюре «Сундук»
герой, залезая в сундук, неожиданно оказывается вне его. С ним, объяснил
Кедров, происходит выворачивание из этого мира через смерть в другой мир:
«Значит, жизнь победит смерть неизвестным для меня способом». Через несколько
лет, изучая иврит, я узнал, что слово Nora означает одновременно и «гроб», и
«шкаф».
В ноябре 1985 года я впервые на дне рождения у
Кедрова. Много народу, о многих уже слышал. Вот небольшая женщина с широко
открытыми, как будто наивными глазами и такой же наивной, неторопливой манерой
речи – Лера Нарбикова; Кедров часто про нее говорил. Она читает отрывок из
романа «Равновесие света дневных и ночных звезд», в котором неразличимы прямая
и обратная перспективы языка. Я никогда еще не видел на русском языке больших
произведений в такой стилистике примитива; наверное, именно так писали бы ожившие
куклы, одну из которых словно напоминает Лера.
С чего начались лично для меня поэтические вечера
кедровского круга? Серый декабрьский день 1985-го, какой-то боковой вход в
Министерство иностранных дел. Неслыханное дело – Кедрова, Кацюбу, Ходынскую, еще
кого-то пригласили выступать в МИДе! Это можно было приравнять к государственному
перевороту! Кедров, конечно, пригласил кучу своих – и… никого, кроме выступавших,
не пустили.
Мне кажется, первый поэтический вечер, на котором я
услышал Кедрова и его спутников со сцены, проходил в Музее Маяковского той же
зимой 1985–1986 годов, но в памяти он не сохранился. Зато помню ДК
Курчатовского института в одну из февральских суббот 1986 года. Огромное
пустынное здание из стекла и бетона, низкие потолки, коридоры, входы–выходы. Мы
долго ждали, пока нам откроют актовый зал. По-моему, администрация очень
удивилась, увидев нас. Ни единой афиши, ни единого человека. Помнится, с нами
был Кацов. Не он ли занимался организацией этого мероприятия? Наконец зал открыли,
и стало понятно, что вечер будет похож на корабль, перегруженный с одного
борта: все, кто пришел, пошли на сцену выступать, а в зале сидел я да еще
два-три забредших на огонёк человека. По обычным меркам – полный провал, а тогда
казалось – победа! Все, кто хотел, смогли чуть ли не впервые показать со сцены
всё, что хотели. Это была как бы генеральная репетиция перед надвигавшейся,
такой долгожданной чередой выступлений после стольких лет вынужденного молчания
или шепота!
А я многие стихи услышал или впервые, или как бы
заново, эстетически, вне связи с кедровскими домашними лекциями. Именно с тех
пор, что называется, с голоса я запомнил и полюбил многие вещи. Поэтическая
вселенная Кедрова была (и осталась) такой же, как человеческая и бытовая: она
непрерывно расширялась, поворачивалась новыми сторонами, в ней продуцировались
новые формы. Ты не успевал привыкнуть к одному – тебя тут же ставили лоб в лоб
с чем-то новым.
Поэтические вечера той поры вел сам К.А. Хотя моим
идеалом всегда был строгий академизм, я завидовал его свободному
неакадемическому общению с аудиторией. В условиях информационного вакуума
поэтический вечер вынужденно совмещался с лекцией о метакоде и метаметафоре. Ни
капельки не занудно, как тогда говорили, «на языке, доступном простому народу»,
Кедров объяснял эти сложные вещи, виртуозно подводя к стихам. Прежде всего он читал
небольшие, но принципиальные вещи: «Зеркальный паровоз», «Казнь», «Проститутку»
(надо было видеть лица почтенной публики середины 80-х при одном названии!),
«Знаки», «Позади Зодиака», «Козу», «Крест», «Поцелуй», «Странника», «Невесту».
Вроде бы многие из этих стихов я должен был знать, но у меня такое впечатление,
что я услышал их (или воспринял) именно на этих вечерах. Не забуду «Konstantin
Kedroff (Сон)» – глубоко трагическое, скоморошеское произведение:
значит смерть корабль плывущий по суше
значит я себя проводил до смерти
берег мой вода а могила суша
вот какой корабль «Konstantin Kedroff»
Тогда же зазвучала и аббревиатура «ДООС» – как
название стихотворения:
Неостановленная кровь обратно не принимается
Окна настежь и все напрасно
две дани времен две отгадки
одна направо одна налево
ДООС
Добровольное Общество Охраны Стрекоз
Затем обычно слово получала Лена Кацюба. Каюсь, я
(как, наверное, и многие) долгое время видел в Лене лишь жену гениального мужа.
Ну да, ну пишет, ну все пишут… Близорукость мне была свойственна не только
физическая.
Но не заметить «Свалку» было невозможно! Вначале это
была небольшая забавная помойка. Мы весело смеялись над «шломанным шамолётом»:
Фюжеляж швернули? Нишего!
Хвошт отвалилшя? Што ж?
Мне бы до вжлётной полошы дополжти!
Куда же ты, детошка? Мы еще вжлетим!
Однако на наших глазах (как сказали бы раньше, «на
глазах изумлённой публики») постепенно возникала не просто поэма, а целая
философия поэтического текста. Это произошло за каких-то четыре-пять месяцев: к
каждому следующему выступлению «Свалка» прирастала новыми территориями. Надо
было еще видеть, как Лена умудрилась на пишущей машинке, за несколько лет до
того, как в стране появились компьютеры, фактически предвосхитить компьютерную
графику, пусть и весьма простую. Точно так же сам К.А. уже в 1984 году написал
знаменитый «Компьютер любви» – а что мы знали тогда об этих компьютерах?
Стихами не
ограничивались: нередко выступала и Лера Нарбикова с отрывками из романа. Ко второй половине вечера, когда публика уже
немного «въехала», К.А. начинал читать свои большие тексты, условно говоря –
поэмы. На первых порах это были «Венский стул», «Заинька и Настасья», «Лабиринт
света», «Шахматный Озирис» и, конечно, «Компьютер любви». Годы 1985–1986 были для Кедрова удивительно
плодотворными. Я теперь понимаю, что мог наблюдать один из высочайших его
творческих взлётов. Что ни месяц – то новая поэма, открытие! Причем это сейчас,
с почти двадцатилетней дистанции, легко оценить. А тогда, признаюсь, я просто
не мог проглотить эти тексты. Становился перед ними в оцепенении. И оторваться
тоже не мог. Вот, представьте, пришли вы на поэтический вечер. В предвкушении
прекрасного, высокого, поэтичного выделяется слюна. И тут на вас падает, как бетонная плита:
Восьмиконечная луна вернет
третья падая восьмерит
лунеет отрицант цвета тосковатого
Металл Металит Метально
параднит судьбант тьмея
наверхно-западно-востоко-
нижне-верхне-средне-
наружно-внутренне-вверх-сегментально… и т.д. и т.п.
Казалось бы, пора уж привыкнуть к Кедрову и его
штучкам. Но в том-то и дело, что привыкнуть к этому невозможно! Каждый раз
чего-то такое, что, как сказали бы тартуские структуралисты, «обманывает
читательское (или слушательское) ожидание». Не успел я приспособиться к
хард-року «Партанта», как послышался фолк-рок «Астраля»:
Астри астрай моя астра
астра любви приветная
ты у меня астра астральная
астрой не будешь не астра
При некотором внешнем сходстве приемов «Астраль»
никак не относится к концептуализму. Это Символ веры: «АСТРАЛИТЕТ – таково мое кредо. / верую потому
что астрально»
Теперь-то я вижу, что эти поэмы взаимодополнительны.
Передать космическую реальность средствами одного языка нельзя: она
многоязычна. Значит, нужно стремиться к тому, чтобы выйти за его пределы.
Космический универсум изоморфен универсуму лингвистическому; на небе есть свои
корни и аффиксы. «Астраль» – это обращение к корню, «Партант» – к аффиксу.
Единое человеко-вселенное существо – это новая реальность, получившая в «Астрале»
название ЯОН:
Не все ЯОН но запад и восток ЯОН
не все ЯОН но голос и звезда ЯОН
не все ЯОН но жизнь и смерть ЯОН
ЯОНы образуют мирозданье
разъединенные они едины
их единение в четвертом измерении
Но ЯОН – это и квантовое единство субъекта и объекта
описания. В своем интересе к современной науке, которым К.А. заражал всех
окружающих, он был последователен, чему свидетельство – поэма «Теорема Гёделя о
неполноте». Кедров очень любит теорему Курта Гёделя, особенно в ее нестрогой
гуманитарной интерпретации: «Если высказывание полно, оно неверно; если
высказывание верно, оно неполно». Впрочем, как знать, быть может, именно такая
интерпретация более осмысленна, нежели ее формализованное представление. Как бы
там ни было, но поэма-теорема – случай в истории поэзии уникальный. Не успели мы переварить «Партант» с
«Астралем», как услышали:
Итак – дуэль!
Дано:
а) Дантес
б) Пушкин
Пушкин целится в Дантеса
Дантес целится в Пушкина
Требуется доказать:
а) Пушкин бессмертен
б) Дантес не вечен
И дальше – безумно смешная пародия на теорему, поэму
и… и биографию… нет, страшно вымолвить… (шепотом) «Солнца русской поэзии».
Сейчас бы за такое идущие в одном месте попросили бы в такое место… Но, с
другой стороны, ведь Кедров доказал-таки в строгом логико-поэтическом тексте,
что,
Поскольку Пушкин > Дантеса в вечности
Дантес > Пушкина во времени
Итак: 37 лет Пушкина = 90 лет Дантеса
Постепенно состав участников этих литературных
вечеров стал расширяться, и они разбивались на два отделения. В первом читали
представители назревавшего клуба «Поэзия» (помню Кацова и Друка; наверняка был
и еще кто-то), во втором – члены ДООСа. Солировал, конечно, К.А.
С конца февраля 1986 года выступления стали
музыкально-поэтическими. Кацов привел джазовое трио «Три О»: Сергея ЛетОва,
Аркадия Шилклопера и Аркадия КириченкО. Все трое играли на духовых. До этого я
никогда их не слышал и ничего о них не знал, да и вообще о джазе имел весьма
академическое представление. Я впервые увидел их на вечере в Битцевском спорткомплексе
(собственно, это был и не вечер: начинался он как будто часа в четыре). «Боже!
– подумал я. – Нету у Кедрова края! Он что, с этими будет выступать?» Рядом с
ним стояли два гоголевских персонажа. Один, в белом балахоне, худобой
устремлялся ввысь и ниспадал кудряшками длинных волос, очков и подслеповатых
глаз. Другой, в клетчатой рубашке и подтяжках, устремлялся окрест себя; в
окрестностях были жгучие глаза под жгучими бровями и жгучая борода. Инструменты
обоих говорили: «И я тоже Летов!» «И я тоже Кириченко!» У Сергея Летова они
были тонкие, изящные, продолжали его длинные руки, длинные пальцы… Аркадий
Кириченко играл в основном на тубе; он наматывал ее на себя, как борец змею (я
всегда вспоминал дореволюционную рекламу фильма «Не для денег родившийся» с
Маяковским в главной роли; оказалось – не я один: в то же время писался
сценарий «Ассы», где этот образ, хоть и по другому поводу, также обыгрывается),
и дальше делал с ней что хотел. Третьего, Аркадия Шилклопера, я в тот раз не
запомнил: тихий, аккуратный, он умудрялся совмещать «Три О» с оркестром
Большого театра.
В феврале – мае 1986 года выступления шли
непрерывным потоком. Далеко не на всех я был, и далеко не все помню.
Вспоминается не то школа, не то ПТУ, кажется, в районе метро «Бабушкинская»,
где чуть ли не в коридоре были расставлены стулья для поэтического вечера;
помню Музей космонавтики на ВДНХ. Какие-то ДК… Помню (это уже май) зал общежития
МГУ на улице Кравченко (метро «Проспект Вернадского»). Кажется, эту встречу
вела Аня Герасимова.
Мое положение в этой компании было довольно
необычным: свой, но не пишущий. Чтобы обыграть это, меня вместе со всеми
«доосами» стали сажать на сцену (точнее, лицом к публике: не всегда эта сцена и
была), и в конце вечера, когда аудитория уже нетерпеливо ждала конца, К.А.
объявлял: «Последний участник нашего вечера – Миша Дзюбенко! У него есть замечательная
черта: он ничего не пишет. Похлопаем ему за это!» Таков был мой «первый раз на
эстраде». Так я стал «выступать»! Все это закончилось так же внезапно, как и
началось, – наступило лето. Оно обещало только хорошее. У К.А. вышла статья о
Есенине. Я проходил практику в Отделе рукописных фондов Гослитмузея, не зная,
что через 18 лет мне, уже сотруднику этого отдела, придется описывать фонд
Кедрова.
Однажды прихожу – на нем лица нет, я таким его
никогда не видел. «Меня уволили из Литинститута». Какие-то странные
подробности, будто дело происходит в годы глухой брежневщины. Правда, не
совсем; запомнился его рассказ о том, как протестующие студенты выпустили
стенгазету: «Семинары, восьминары, девятинары…» Но, признаюсь, я тогда не понял
драматизма ситуации, поскольку разделял со многими филологами мнение Пастернака
о том, что Литературный институт был ошибкой Горького. Материальные последствия
стали ясны вскоре – когда со стен кедровской квартиры любимые всеми нами
уникальные картины Павла Челищева ушли к какому-то коллекционеру. О душевных
последствиях умалчиваю…
И все же… Юность ожидает только хорошего. Сезон
1986–1987 годов оправдал эти ожидания с лихвой.
Кажется, был уже ноябрь. В Манеже открылся Молодежный форум – помнится,
так называлось это важное перестроечное мероприятие: выставки, концерты, показы
мод, дискуссии. Легализация молодежной субкультуры и примкнувшего к нему
авангарда. Все было очень карнавально.
Пригласили туда и Кедрова. Я тоже оказался на сцене.
Это был самый разгар моих попыток лингвистически
осмыслить поэтический авангард. Я пришел к выводу о том, что существует единый
лингвистический универсум, объединяющий все языки мира во всём объёме их
исторического развития и функциональных приложений. Этот универсум не есть
научная абстракция. Он проявляется конкретно: на низшем, фонетическом уровне –
в наименовании, причём здесь языковые различия не играют определяющей роли; на
высшем, грамматико-синтаксическом уровне – в творчестве, которое только и
возможно благодаря существованию разных языков и само есть неосознанное или,
реже, осознанное заимствование
иноязычных структур. Можно было бы сказать, что существуют две формы энергии
языка: действительная и потенциальная; последняя и есть форма существования
лингвистического универсума. Связь между языками осуществляется на всём спектре
состояний сознания, и традиционными методами лингвистического анализа этой
связи обнаружить нельзя.
Всем этим я сумбурно поделился с К.А., и он предложил
мне сообщить об этом разношерстной публике, шатавшейся по Манежу и подходившей
то к одной, то к другой сцене.
Конечно, с академической точки зрения вылезать с
такими серьезными и одновременно спорными тезисами на эстраду было чистейшим
варварством и непростительной вульгарностью. Меня вдохновлял пример футуристов,
которые умудрялись совмещать научные дискуссии с арт-скандалами. Впрочем, на
последнее я не претендовал – просто (который уже раз в жизни!) вспомнил рассказ
И. Андроникова «Первый раз на эстраде». Мне предстояло доходчиво и кратко
объяснить простой советской молодёжи то, что я и сам не до конца понимал. Что я
и сделал.
Не скрою, у меня осталось ощущение огромного камня,
брошенного в бездонную пропасть, – никакого встречного звука, никакой ответной
реакции. Да и какая могла быть реакция? Это же был карнавальный калейдоскоп!
Конечно, вне академической науки тема неизбежно снижалась; но, с другой
стороны, возникла-то она именно в этом, игровом контексте, он был для нее
родным! Лингвистический универсум мог быть не только научным понятием, но и
поэтической программой! Теперь,
знакомясь с творчеством Вилли Мельникова, я более чем когда-либо уверен в своей
правоте.
Ноябрь. Предстоял вечер в библиотеке на Чистых
прудах (тогда – еще станция метро «Кировская»). Как всегда, вести его должен
был Кедров, а я – изображать хорошего непишущего мальчика. Но К.А. возьми да и
скажи: «Как-то неудобно и вести вечер, и выступать на нем. Может быть, ты
будешь вести?» Видать, его вдохновила моя революционная речь в Манеже.
Не скрою, предложение показалось мне очень лестным.
Но я не знал – как?! В Манеже побубнил пять минут и ушел, а здесь мне, зажатому
занудному студенту-четверокурснику, надо было держать на себе всю конструкцию
выступления.
Однако я денек подумал и согласился.
Конечно, «ДООС» немного приобрел в моем лице.
Конечно, мне приходилось постоянно напоминать себе, что я не на заседании
Научного студенческого общества. Конечно, К.А. был все время на подхвате. Но
позорного провала не случилось, хотя кедровский конферанс и по сей день
остается для меня непокоренной вершиной. Начало было положено. Ведомый стал
изображать ведущего.
Дальше был декабрь, Центральный дом художника. Зал
хоть и не самый большой, но, во-первых, несравнимо больше библиотечного, а во-вторых,
настоящий – со сценой, рампой, микрофоном и пр. Публика пришла самая разная –
не то чтобы все свои. Но ведь только для своих какой смысл?! Свет в зале не
тушили. Я посмотрел на это море (как мне тогда показалось; на самом деле зал не
был заполнен) людей и бросился на/в него, как в холодное море. Кажется, была
какая-то сложная программа со множеством участников, надо было быстро и просто
объяснить, что их объединяет, при чем здесь звездное небо и т.д. Как раз
накануне я где-то вычитал поразивший меня факт: оказывается, число клеток
человеческого тела того же порядка, что и число звезд во Вселенной. Едва я
сообщил об этом прибалдевшей аудитории, как из зала раздался голос Ани
Герасимовой: «Ты что, считал?» Я растерялся. Во мне еще жил академический предрассудок
безусловного приоритета лектора над аудиторией, его неприкосновенности. Но тут
же я вспомнил, что здесь правила игры другие. И вдруг слышу, кто-то кричит ей в
ответ моим голосом: «Да, всю ночь, еле успел».
С тех пор, как в нашем Отечестве началось
кратковременное, хотя и не повсеместное смягчение государственных нравов, я не
оставлял надежды свести две стороны моего бытия, соединить, казалось бы,
несоединимое – современный авангард и университетскую аудиторию. Ведь не всегда
же между ними возвышалась Берлинская стена отчуждения! Вечер в Доме студента на
Кравченко был неудачен и малолюден – я хотел услышать «Партант» в самом МГУ.
Единственной инстанцией, которая могла бы пригласить «доосов» без ущерба для
собственной репутации, умеренно сочетавшей серьезность и легкомыслие, было
Научное студенческое общество. Переговоры с его вождями велись несколько
месяцев; наконец выбрали взаимно устраивавшую всех дату – 7 апреля 1987 года,
вторник, 18 часов.
Это был самый главный день в моей жизни! Как я
готовился к нему! Андрей Бондаренко написал десяток афиш (как жаль, что у меня
не сохранилось ни одной!), я и не помню еще кто развесили их не только в
корпусах МГУ, но и в местах наибольшего скопления интеллектуальной молодежи
столицы: выставочных залах, институтах… Сейчас бы это назвали «Презентация
ДООСа в МГУ». Как назвали тогда – не помню. Я нервничал страшно: боялся, что не
будет публики, что не придут выступающие. А больше всего боялся, что те и другие
друг другу не понравятся, поскольку взаимная настороженность была колоссальной.
Но, несмотря на все страхи, я был заинтересован в
максимально профессиональной аудитории. Поэтому персонально пригласил на вечер
Максима Ильича Шапира – тогда еще восходящую филологическую звезду, который,
как я знал, интересуется авангардом, хотя и не является его адептом. И выступающие пришли, и публика. Кажется, это
происходило в аудитории №7 на первом этаже первого гуманитарного корпуса.
Вот тут я по-настоящему почувствовал себя ведущим.
Одно дело выступать на молодежных площадках, и совсем другое – в alma mater.
Здесь действительно требовалось установить взаимный контакт – и кому как не мне
предстояло это сделать? Я был средостением между теми и другими. Университетскую
публику надо было настроить на понимание того, что ей предстояло услышать, а
выступающих – смягчить по отношению к тому, как их могут воспринимать. Конечно, диковато было видеть, как
консервативная университетская профессура слушает рассказ К.А. о метаметафоре.
Но, с другой стороны, каких-нибудь три года назад и я был такой же.
Мы постарались собрать всех, кто смог прийти.
Кажется, были Наташа Михайлова, Кацов и даже Кисина. Лера Нарбикова читала
отрывок из романа. Егор Радов поразил чопорную интеллигенцию рассказами о
надувной женщине и «Хочу быть юкагиром!» Выступал Даенин. Конечно, были
Ходынская, Лена Кацюба и К.А. Нельзя сказать, что принимали плохо. Скорее
никак. Чтение шло в тишине, набухавшей напряжением. Всем запомнился перелом в ходе вечера. Лена
читает «Свалку». Филологи ошарашены.
Все новые башмаки новы одинаково,
каждый рваный башмак рван по-своему.
Тишина лопается: на всю аудиторию разносится смех
Шапира.
Еще одно памятное выступление – в молодежном кафе
«На Сретенке» 20 мая того же года. Его вела Дуня Смирнова, которая тогда
воспринималась как младшая ипостась Ани Герасимовой. Низкие сводчатые потолки,
тесные переходы. Кафе помещалось в зданиях бывшего Сретенского монастыря, в
подвале. Как-то нелепо смотрелись под этими сводами барные стойки. Но храмовая
архитектура была в ту пору приглушена, унижена, так что почти ничем не давала
себя знать. Спустя десять лет я не смог найти точное место, где находилось это
кафе, – оно оказалось во внутреннем дворе возобновленного монастыря, недоступном
внешнему человеку. Помнится, я выступил там с каким-то манифестом, текст
которого передал Дуне для публикации и который благополучно сгинул.
Другое время. Другая страна. Утро. Я сажусь за
статью о старообрядчестве. Потом просматриваю газету. В Эрмитаже выставка
Кабакова; теперь это седой сдержанный мэтр. Прогрессивное человечество
празднует день рождения Свибловой, которая забиеннала фотографиями всю Москву.
Иду в книжный магазин; на каждой второй книге написано: «Художник А.
Бондаренко». Мне звонит ученица: она дружит с Умкой и готовит вечер с участием
С.Летова. По телевизору Дуня Смирнова оканчивает третий класс школы злословия.
На работе меня ждет опись фонда клуба «Поэзия».
Сам я без поцелуя без взгляда
без голоса без костюма
то в ванне то в телевизоре
то за решеткой
Открываю
журнал «Новое время».. На предпоследней странице читаю:
«Наш ответ Нобелевке
<…> Главной сенсацией Grammy.ru-2003 можно
назвать победу в номинации «Поэзия года» поэта, доктора философских наук
Константина Кедрова. Наконец-то читатели и слушатели оценили написанный им еще
в 1984 году поэтический шедевр «Компьютер любви»…»
С фотографии глядит на меня знакомое лицо – то,
которое я впервые увидел двадцать лет назад в Ирпене.
Сначала восстал голос
потом дыхание
еще ничего не видно
а уже говорит и дышит
А я… Ну что я…Ни стрекозы из меня не вышло, ни
ейного охранника. Что ж… Буду лежать медведем у корней сосны и глядеть, как
надо мной, под вечнозелеными иглами и шишками кедрового леса, порхают те, у
кого это получилось.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Елена Кацюба
ТОЧКА
Построение точки

Величина точки
А
– 1 (5)
Б
– 2
В
– 3
Г – 4
Д – 5
Е – 6
Ё – 7
Ж – 8
З – 9
И – 10
Й – 11
К – 12 (4)
Л – 13
М – 14
Н – 15
О – 16 (2)
П – 17
Р – 18
С- 19
Т – 20 (1)
У – 21
Ф – 22
Х – 23
Ц – 24
Ч – 25 (3)
Ш – 26
Щ – 27
Ъ – 28
Ы – 29
Ь – 30
Э – 31
Ю – 32
Я – 33
Т О Ч К А = 5 (букв)
20 + 16 + 25 + 12 + 1 = 74
74 = 7 + 4 = 11
11 = 1 + 1 = 2
·
= 2
2 = 5
Судьба точки
ТОЧКА
ТаЧКА
дАЧКА
ДамКА
ДыМКА
ДЫрКА
------------------------------------------------------------------------------------------------